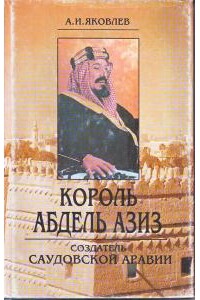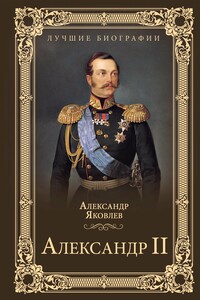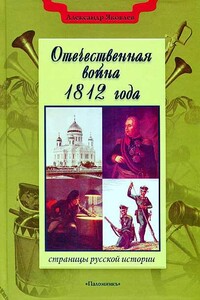Светоч Русской Церкви. Жизнеописание святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского | страница 73
Главное и самое сокровенное в личности митрополита Филарета состояло в том, что он был прежде всего монах, вместе с черными одеждами принявший монашеские обеты смирения и послушания. И как бы дерзко и высоко ни взмывала его смелая мысль, как бы ни пламенело праведным огнем веры его сердце, он смирял себя и подчас в мучительных испытаниях искал прежде всего волю Божию.
Список молитвы свт. Филарета
Быть может, в Гефсимании родилась его известная молитва: «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, даждь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою, сердце мое отверсто; Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мной по милости Твоей; порази и исцели, низложи и подыми меня! Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе; научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь».
С юности, а уж с монашеского пострижения точно, он ощущал себя гражданином неба, того Царствия Небесного, которое стало для него не меньшей реальностью, чем вся мирская суетная жизнь. Потому-то святитель Филарет мерил всё и всех этой высшей, небесною мерою. Потому-то в большинстве своих проповедей он исследовал тексты Ветхого и Нового Заветов, свободно прилагая их опыт ко дню сегодняшнему. Для него мир во времени и пространстве был един, как едина Церковь, как един Бог. Но он жил все же в этих двух мирах, сознавая, что это не всем дано и не все готовы дышать чистым воздухом мира горнего, что иные даже из собратий не в состоянии понять его и поверить ему. Думается, что это вынужденное раздвоение более тяготило душу святителя, нежели все дворцовые, синодальные и епархиальные неприятности, вместе взятые.
В декабре 1842 года владыка произнес в Лавре слово по освящении храма в честь явления Божией Матери преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея. То были равно его признание в любви к монашеству и исповедь: «…С уважением взираю на твои столпо-стены, не поколебавшиеся и тогда, когда поколебалась Россия, знаю, что и Лавра Сергиева, и пустыня Сергиева есть одна и та же и тем же богата сокровищем, то есть Божиею благодатию, которая обитала в преподобном Сергии, в его пустыне и еще обитает в нем и в его мощах, в его Лавре;
но при всем том желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврою. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятыя Троицы? Вошел бы я в него на всенощное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению, но сердца молящихся горят тише и яснее свечи, и пламень их достигает до неба, и Ангелы их восходят и нисходят в пламени их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать прах ее сеней, который истерт ногами святых и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной…