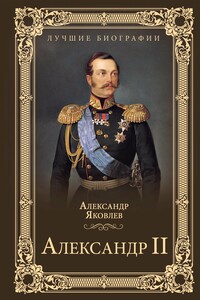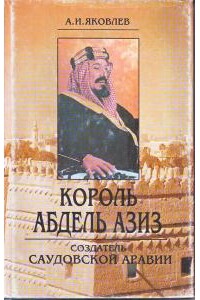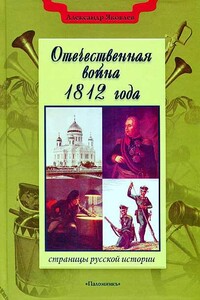Светоч Русской Церкви. Жизнеописание святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского | страница 30
Члены Синода заволновались. Старые архиереи страшились любой новизны, тем более связанной с текстами Писания. Еще жива была память о возникновении раскола, связанного с исправлениями церковных книг Патриархом Никоном, еще не для всех стала привычной Елизаветинская Библия, выпущенная в свет в 1751 году с некоторыми исправлениями. Они боялись взять на себя ответственность за исполнение повеления царя, но и отвергнуть его никак не могли. Наконец осторожные архиереи нашли решение, снимавшее с них всю ответственность, но не ставившее их в положение ослушников царской воли. Было решено готовить переводы на русский язык в столичной духовной академии под контролем Комиссии духовных училищ, а изданием русской Библии предложить заняться Библейскому обществу.
16 марта 1816 года Комиссия духовных училищ положила: «Поручить дело сие ректору Санкт-Петербургской духовной академии отцу архимандриту Филарету с прочими членами академии…». Сам отец Филарет взял на себя перевод Евангелия от Иоанна – самого трудного с богословской точки зрения и самого значимого духовно. Ему же принадлежит составление правил для переводчиков и вступительных статей к первым изданиям Четвероевангелия и Нового Завета с русскими текстами.
Вступительная статья к русскому Четвероевангелию была подписана тремя именами, но стиль Филарета трудно не узнать: «Словом Божиим все сотворено, и все сотворенное держится силою слова Божия. Для человека слово Божие есть нетленное семя, от которого он возрождается из естественной в благодатную жизнь; есть хлеб, которым он духовно живет, и вода, которою утоляет духовную жажду; есть светильник, сияющий в темном месте, пока придет рассвет и заря взойдет в сердце, и есть самый дневной свет, то есть живое и блаженное познание Бога и чудес Его во времени и в вечности. Без слова Божия человек мрачен, гладей, жаждущ и мертв духовно».
Было предложено переводить с греческого языка как первоначального преимущественно перед славянским. В переводе надлежало стремиться к точности и ясности выражений, а также к чистоте языка. «Величие Священного Писания, – указывал архимандрит Филарет, – состоит в силе, а не в блеске слов; из сего следует, что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности». Однако все добавления славянского текста, внесенные ранее в текст Елизаветинской Библии для пояснения греческого оригинала, сохранялись в квадратных скобках.