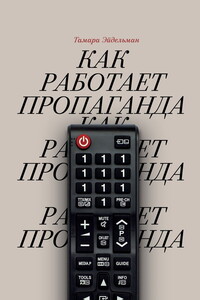Право на жизнь. История смертной казни | страница 21
Ни кровной мести, ни «влияния на судебный приговор со стороны друзей подсудимого и окружающей его толпы, которое допускалось древнейшим германским правом»[23], ни возможности решить дело поединком, то есть хоть в какой-то мере самостоятельно, в Древнем Риме не существовало. Если с кровной местью римское государство не могло мириться, то другой обычай, явно восходящий к очень древним временам, – наказание не конкретного виновника, а всей общины – был римлянам вполне понятен. У них существовал жестокий (хотя и нечасто применявшийся) обычай децимации, при котором за потерю знамени, бунт в войске или за дезертирство казнили не того, кто потерял знамя, подбивал товарищей к бунту или дезертировал, а каждого десятого из его подразделения. Архаический характер наказания виден в том, как оно приводилось в исполнение. Десять солдат бросали жребий – и казнили того, на кого указала воля богов. При этом иногда казнь совершали представители государства – ликторы, а иногда убить несчастного поручали остальным девятерым: они должны были забить его камнями или дубинками – точно так же, как это делалось в родовых обществах.
Но что считалось преступлением против государства или, вернее, общины? Теодор Моммзен перечисляет: государственная измена, или сообщничество с неприятелем, или соединенное с насилием сопротивление властям. «Но нарушителями общественного спокойствия считались также злостный убийца (parricida), мужеложец, оскорбитель девичьей или женской чести, поджигатель, лжесвидетель и, кроме того, тот, кто магическими заклинаниями портил жатву или похищал в ночное время хлеб с полей, оставленных под охраной богов и народа, поэтому и с ними обходились как с государственными изменниками».
По сути, здесь перечислены те тяжкие преступления, за которые карали еще в первобытном обществе, считая, что они нарушают устои жизни общины. Для Рима же благополучие общины всегда было на первом месте.
Мысль о том, что казнь преступника благотворна для общества, пройдет через века и цивилизации. Через много веков после Тита Манлия совсем другой человек, Мартин Лютер, будет призывать с уважением относиться к действиям палача, который «есть очень полезный и даже милосердный человек, потому как останавливает злодея, чтобы тот не мог злодействовать более, и этим подает пример другим, дабы им не делать [того же самого]. Он рубит ему голову; других же, следующих за ним, он убеждает, что дóлжно убояться меча, и тем поддерживает мир. В этом есть великое милосердие». С точки зрения великого религиозного реформатора, задача палача настолько важна, что «если вы видите, что недостает палачей, приставов, судей, господ и князей, и вы находите себя подходящим для этого, то надлежит предложить свои услуги и искать этой должности, дабы власть государства не оказалась презренна или ослаблена»