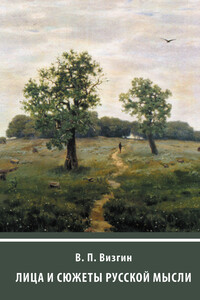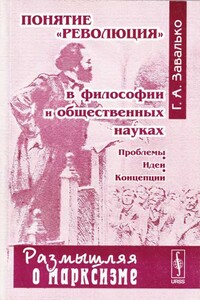Пришвин и философия | страница 37
В развитие этой темы скажу, что Пришвин видится мне состоявшим на службе у реальности: в нем всегда жил ответственный служака Правды, работавший над ее словесным оформлением нелегким «заступом» очеркиста, наблюдателя, репортера, прямого свидетеля. С молодых лет, с экспедиций на Север, когда мы видим его не только как журналиста-краеведа, но и как этнографа-фольклориста, Пришвин приучил себя на ходу записывать схваченные «куски жизни». Да, его «первый глаз» их выбирал, но все подмеченное было натуральным, из «первых рук» природы и жизни взятым. Гачев верно сказал о нем: «Последний могиканин русской классики» (с. 102), то есть русской натуральной школы. Пришвин не может писать без «материала», причем непременно своего, в нелегком труде собранного. А Гачев может: он пишет всегда, вглядываясь в текущее в нем и вокруг него мгновение мира. Пишет по следу удивления, озадаченности, по настроению, в охотку, медитируя, вспоминая сегодняшний день, вчерашний разговор, прочитанную книгу, коллизию в семье и т. д. В дневниках Пришвин тоже пишет подобным образом, но они у него при этом переполнены материалом натуры, «фактографией» переживаемой жизни. Как писателю – создателю произведений, предназначенных для публикации, ему необходим специально собранный материал о небывалом или малоизвестном, о том, что может служить предметом общего интереса. Отсюда его заказные командировки. Гачев же сам себя командировал туда, куда ему хотелось, в те страны, «психокосмологосы» которых стояли на очереди их воссоздания как национальные образы мира (польский, итальянский, грузинский, американский, киргизский, индийский, французский и т. д.). Поэтому у Пришвина, уходящего с блокнотом в кармане в лес, там была скорее служба, пусть и любимая, а не кондитерская («медок бытия»). Так что свой гедонизм «язычника» Гачев невольно спроецировал на Пришвина.
Гачев меткими словами описывает ту «уютность и детскую человечность», которой дышат произведения Пришвина. Мягкое, доброе, теплое, детски уютное чувство навевают они душам его читателей. Откуда это, почему? Мне кажется, это оттого, что Пришвин действительно поэт