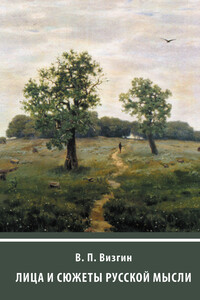Пришвин и философия | страница 29
Но сначала – о пришвинском вечере. Он начался фильмом о дневниках Пришвина, звучала музыка Скрябина, мелькали фотоснимки, сделанные писателем, публика читала выводимые на экран афоризмы из его дневников. Затем последовал рассказ Я.З. Гришиной о пришвинской «домостроительной» мечте, осуществленной вместе с покупкой и обустройством дома в Дунино под Звенигородом. И когда, наконец, пришел мой черед выступать, я чувствовал себя уже усталым, что, видимо, и привело к тому, что подготовленный текст почти не читал, а бросился его комментировать.
Это была безоглядная импровизация. Все, что скопилось во мне от долгого впитывания пришвинского «жизнемыслия», включая самые интимные сюжеты, каких в дневниках писателя немало, беспрепятственно и бессистемно вылетало вовне. По виду слушателей я чувствовал, что и их души, как зажатые холодом незабудки, раскрывались, словно от весеннего тепла. Каким-то затылочным чувством я понял, что опасно разогнался на «масле» эмоций. К счастью, спас инстинкт трезвости. Посмотрев на следящего за моими руладами Виктора Петровича Троицкого, ведущего вечер, я спросил его о времени. Он выразительно поднял скрещенные руки. Стоп! – сказал я себе с облегчением.
– Да вы кудесник! – обронил кто-то.
– Нет, я только учусь, прислушиваясь к Пришвину! – отчеканил я незамедлительно.
Удивительный накал самоотдачи пережил я в этот вечер, будучи, как сказал присутствовавший в зале Сергей Сергеевич Демидов, «в ударе». В громыхающем вагоне метро мы продолжали беседу о Пришвине. С разговора о Пришвине Демидов как-то естественно перекинулся на воспоминание о том, как Гачева принимали на работу в сектор истории математики и механики ИИЕТ[52], который он возглавляет в настоящее время. Гачева попросили рассказать, что же он, филолог, хочет изучать и о чем писать. Георгий, как актер на сцене, выразительно произнес: Гаусс, Хаус, сходным звучанием этих слов отсылая к интуитивно им предполагаемой родственности идей немецкого математика образу дома как пустого пространства. Потом к Гауссу-Хаусу добавился греческий Хаос в смысле «зияния», «бездны», «пустоты». Вот и выстроился семантико-музыкальный ряд, для Георгия основополагающий и резюмирующий программу его исследований.
Как мышь, стремительно перебегающая дорогу, при воспоминании об этом вторжении гуманитария в точные науки на наши лица одновременно выбежала улыбка: ведь имя гениального немецкого математика (Gauss) пишется через другую букву, чем Haus! Но музыкально-метафизическому уху Георгия такие контраргументы не указ. Несмотря на логику приземленного рассудка, он оставался при своем