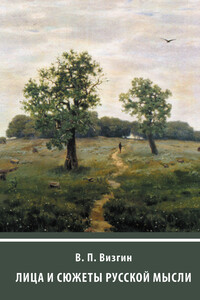Пришвин и философия | страница 28
Пришвин любил слово «план» – такое современное, рациональное, даже техническое – и умел планировать свое жизнетворчество. Он вставал в пять утра, пил чай и садился за работу в полной тиши деревенского дома, воодушевленный чувством «святости бытия», сознательное культивирование которого связывает его с Пастернаком, Марселем и даже, более отдаленно, Хайдеггером. Особенно остро это чувство переживается после глубокого сна, когда мы бодры и свежи. Культ утреннего бодрствования был близок и моему другу, заваривавшему крепчайший чай по утрам и садившемуся за немецкий том Хайдеггера. И мне это было знакомо. Но системой не стало. По утрам возникали стихи, слышались голоса, носились видения, и я открывался скорее им, а не диалектике трактата. У Пришвина его «жаворонковые» часы отдавались прежде всего писанию дневника. И так выдерживалось всю его долгую жизнь: творческой силой своего дара он хотел – и умел – распоряжаться рационально, целеустремленно.
Добро, по Пришвину, творится во многом потому, что мы его предполагаем в том, с кем встречаемся. Тем самым мы ему оказываем доверие, или, если угодно, относимся с презумпцией даже не невиновности, а исходной «хорошести», добротности. «Хорошие люди, – говорит Пришвин, – встречают тебя впервые как будто давным-давно знали тебя как хорошего близкого человека»[50]. Щедрый аванс «родственного внимания» к человеку побуждает его к ответному добру и в результате делает лучше на самом деле.
Модным писателем Пришвин не был, не является и сейчас, думаю, и не будет. Он и сам замечал это, говоря, что у него небольшая известность «среднего» писателя. Не салонная шумиха вокруг имени свидетельствует о значительности таланта человека, а всхожесть семян его жизни и творчества, сросшихся в подлинное единство.
Пришвин и Гачев
«Никаким делом человеку не превозмочь тревоги своего существования», – записал однажды Пришвин в дневнике. Во время вечера, посвященного философии дневников Пришвина, на полотне экрана в Доме-библиотеке А.Ф. Лосева вспыхнуло это высказывание писателя[51]. И я его запомнил: как же глубок был Пришвин как человек и мыслитель! Экзистенциальность его мысли – первое и главное ее определение.
На следующий день после вечера в Доме Лосева, на котором выступали Яна Зиновьевна Гришина и я, было еще одно культурное событие, на сей раз в музее-библиотеке Н. Федорова, где должна была открыться выставка дневников Георгия Гачева. К ней был приурочен круглый стол, посвященный дневнику как литературному жанру. Настя Гачева пригласила выступить на нем меня. Устав от пришвинского вечера, я отказался выступать: «отстрелялся», выговорился. Но, отлежавшись, переменил решение. Главное, стало ясно одно: отказать Насте не могу, Георгий Гачев мне по-настоящему близок. И Пришвин, и Гачев – по-разному, конечно, – много для меня значат. Поэтому мой долг – выступить о них обоих. О Пришвине я уже наговорился. Что ж, подумал, теперь скажу немного и о Гачеве.