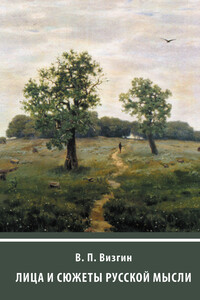Пришвин и философия | страница 22
Глава «О живой и мертвой воде» была отмечена только крестиками «родственного внимания», означающими согласие и интерес для продумывания. Две мировые силы видит автор «Незабудок»: силу сходства, осознаваемого как законы, и силу различия, осознаваемого как личности. Здесь он открывает трагедию обобщающего ума, пропускающего мимо себя «жизненные единицы», живые лица. У любого принципа, говорит Пришвин, «нет лица и внимания к лицам». И он создает компактную мифологически окрашенную философему о грехе обобщающего ума («Каин убил Авеля, конечно, принципиально»). «Истоки науки, искусства, – говорит Пришвин, – персональны», но сила обобщения, развиваемая в них, ставит их по ту сторону добра и зла. Напротив этой мысли стоит карандашная «галка». Вот выписываю мысли Пришвина и смотрю в лупу на свои каракули почти полувековой давности и думаю: а ведь со всем этим я и сегодня согласен! И не то чтобы я «взял» эти мысли «напрокат» у русского мыслителя, а просто своим долгим опытом к ним пришел. Правда, с ними я был уже знаком, но ведь когда читал «Незабудки», то просто читал книгу, как обычно читают люди, а не выстраивал свое мировоззрение в свете читаемого и ничего не писал о подобных сюжетах, если не считать коротеньких маргиналий.
Вот еще один поворот упомянутой выше драмы сил-понятий, понятия сходства и понятия различия (раз-личия): сила обобщения образуется «путем уничтожения, убийства случайного»[38]. Понятие «случая», или «казуса» близко к понятию «примера», но не в значении пассивной иллюстрации обобщения, а в смысле познавательно продуктивного резервуара опыта. В склонности к приведению и, главное, исследованию таких «примеров» при работе мысли, над чем привыкли издеваться гегельянцы, сквозит та же самая нота. А манера такого философа, казалось бы, на первый взгляд, далекого от Пришвина, как Габриэль Марсель, непредставима без постоянного обращения к таким «примерам». Они у него выступают как точки лично пережитого опыта, как опорные пункты феноменологического исследования проблемы. Поэтому не случайно с Марселем у меня получился такой неожиданный резонанс. Этот резонанс, пусть и не во всей своей «массе», был только эхом более изначального резонанса, сродства с русским мыслителем, известным в то далекое время почти исключительно только в качестве писателя и натуралиста[39].
Апология наивности, прозвучавшая в той же главе, также удостоилась крестика и подчеркивания: «Все хорошее в человеке почему-то наивно, даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то додуматься»