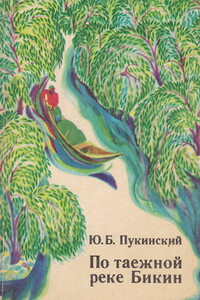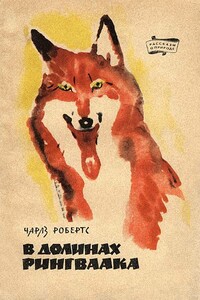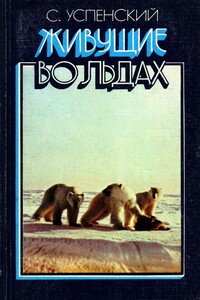Карельская тропка | страница 70
Первый раз в печь я заползал неумело, сбивал солому и отчаянно жег локти и колени о раскаленный кирпич. После преодоления первого препятствия на пути к банному блаженству мне предстояло совершить еще один подвиг — изменить положение тела: перевернуться на спину и как-то сесть в печи.
Голова то и дело касалась раскаленного свода, я вскрикивал про себя, но вслух свое неудовольствие не выражал, опасаясь, как бы. хозяин «бани» не придумал для меня новые, более тяжкие испытания.
Жар, сухой настоящий жар, собранный сводом очага, качался вслед за малейшим моим движением и волнами скатывался с плеч по спине. Я сел и отдышался. Страхи прошли и ко мне уже приходили восторженные слова, которые я собирался адресовать бане-печке. Сидеть и наслаждаться богатым теплом и пусть без движения, и пусть в темноте я бы мог сколько угодно. Но хозяин дома и печки предупредил мой восторг. Дождавшись, когда я отдышусь, он подал мне на ухвате чугунок горячей воды, а следом и веник. Сии ритуальные предметы обязывали меня по всей банной науке приступить к главному священнодействию.
Я намочил веник в чугунке и собрался было легонько пройтись мягкими веточками по плечам, но неосторожно коснулся мокрым веником стенки очага… И тут, будто взорвавшись, пар с размаху ударил в лицо, ожег шею и спину.
Как я не выскочил тут же из печи, как удержал себя на месте — не знаю, но размахивать веником в раскаленном каменном мешке больше не стал. С грехом пополам я потер мочалкой руки и ноги, а когда осторожно выполз на свет божий, то узнал от своего хозяина-банщика, что в печи полагается париться еще и при закрытой заслонке, то есть в кромешной тьме, из которой нет выхода ни человеку, ни взбесившемуся пару.
Со временем мыться в печи я научился, но проделывал эту вынужденную операцию без большого энтузиазма и самое высшее наслаждение испытывал лишь тогда, когда покидал печь и на мосту, на черном дворе, окатывался холодной водой…
Может быть, я и не прав, когда без большого восторга отношусь к обычному мытью в худых банях, плохо топленных, сырых, дымных, угарных, но по-другому просто не могу, ибо всегда помню чудесную северную баню, поставленную ладно и красиво на берегу лесного озера архангельским крестьянином и рыбаком Федором Тимофеевичем. Фамилию этого человека я не помню, но так получилось, что его лодки, избушка и его баня, оставшиеся после смерти хозяина без присмотра в тайге, на время перешли ко мне.
Я жил один в брошенной людьми лесной деревушке, заготавливал рыбу, охотился, писал. Промысел и литературная работа требовали сил, и, когда сил уже не оставалось, я топил баню…