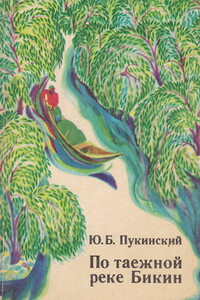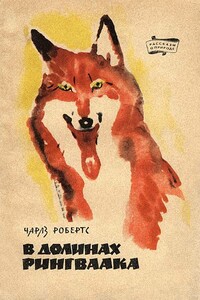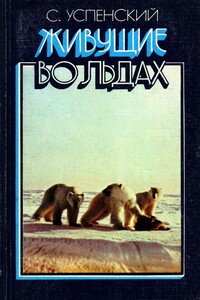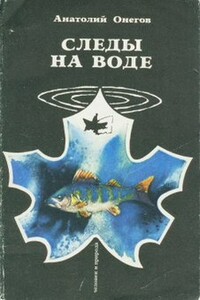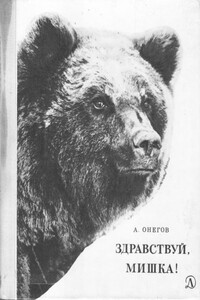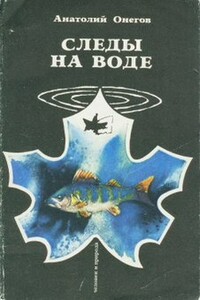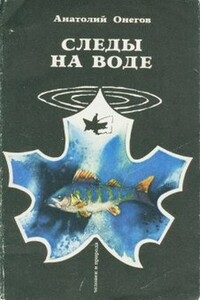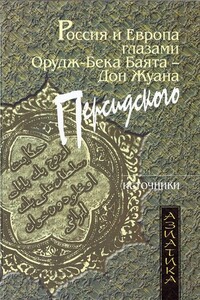Карельская тропка | страница 131
Словом, перебрался я из леса в большой совхозный поселок и поселился в самом последнем доме на берегу удивительного по своей схожести с среднерусской водой большого и мелкого озера — Логмозера.
Чудное это было место. Из окна видел я и заливное озерко, где с весны до середины лета гомонили озерные чайки и исправно будили меня в утреннюю рань, видел широкое озерное плесо, густо поросшее с берегов кугой и тростником. К мостку, с которого брал я воду, по утрам собирались утки, что велись на озере в большом числе, встречал я на этих мостках занятных, неторопливых в деле и поспешных в бегстве зверьков — ондатр. Весной, когда озеро разливалось, прямо у моего дома булькали нерестовые щуки, а по осеки, когда у берегов уже лежал хрусткий ледок, видел я под своим окном отдыхающих лебедей. Видел я из своего окна и белый, чистый снег, и огни большого города, и высокую лесную гриву-берег, за которой качалась и по декабрю неуемная волна самого Онего.
Рядом с моим домом неширокой протокой шла в Логмозеро речная вода, отделившаяся от главного русла реки Шуи, реки долгой и шумной, с порогами и большими глубинами, славной своим шуйским сигом и своим шуйским стадом озерного онежского лосося… Река, разделяясь на два рукава перед Логмозером — один главный, быстрый и глубокий, другой небольшой и неторопливый, несла свои неугомонные воды из глубины Карельских лесов через Логмозеро в Онежское озеро-море. Здесь, где река еще шла торопливой речной водой, и вытянулся по обоим берегам реки поселок — главное владение большого пригородного совхоза, который и сотворил на Карельской земле Шуйские поля…
Когда-то на месте совхозного поселка стояли крепкие северные деревушки. Стояли прочно, больше в два этажа, смотрели окнами на воду и на дорогу, которая шла через речку здесь еще со времен Петра. Были эти придорожные поселения, видимо, богатыми, в чужое поле за достатком не ходили, посему и не тронуло их эхо Кижского бунта. А ведь и история помнит, что были в Шуе ходоки с Кижей, просили вроде бы помочь, звали с собой. Но Шуя — звали и тогда так на круг эти сросшиеся, сошедшиеся дом к дому деревушки Сатаровы, Лембочевы — на кижский набат не ответила и осталась мирно жить до самой последней войны, вспоминая своих лихих жеребцов, своих неторопливых, ухватистых рыбаков и свои тайные охоты за лосями, которых велось по этим местам достаточно.
После войны старых, крепких и сытых двухэтажных домов почти не осталось, на их месте наскоро поднялись дома попроще, уже не в шесть окон наперед, не в два этажа, не на две половины каждый этаж, а по-новому — с тремя передними окнами на улицу или на реку.