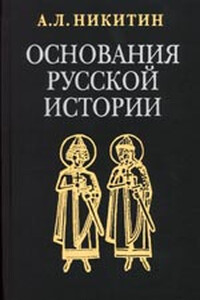Над квадратом раскопа | страница 49
Если на Кольском полуострове, освободившемся ото льда, природа начинала «с нуля», то в Волго-Клязьменском междуречье шло ее естественное восстановление, реализующее ресурсы, накопленные в предшествующее межледниковье. Иными словами, между Кольским полуостровом и Плещеевым озером лежали не только километры, а целый виток эволюционной спирали, насчитывающий не менее полутораста тысяч лет.
Как я уже писал, время последнего оледенения для областей, лежащих за пределами ледника, было совсем не бесплодно. Развивалась не только животная жизнь. Не только человек за эти десятки тысячелетий сумел сделать шаг от неандертальца к кроманьонцу, человеку современного типа. За это время изменился минеральный покров Земли, позволив в течение десяти — двенадцати тысяч лет голоцена совершить невиданный по силе и концентрации энергии «всплеск».
Понять и принять как факт этот парадокс было необходимо. Не так просто было к нему прийти. Вместе с его принятием неизбежно менялся взгляд на процессы, происходившие в биосфере в послеледниковое время, и на историю человека. История требовала нового прочтения. «Текст» оставался вроде бы прежним — те знаки и приметы Земли, по которым мы догадываемся о ее прошлом, как догадываемся о прошлом человека по его взгляду, морщинам, мимике, жестам, — но то, что раньше представлялось близким по времени, ясным и не требующим доказательств, теперь отступало в глубь веков…
Наука не стоит на месте не только потому, что перед ней внезапно открываются новые горизонты, но и потому, что прежние выводы и аксиомы вызывают сомнение у последующего поколения ученых, которые начинают их проверку и уточнение.
За годы, прошедшие со времени моих раскопок на Плещеевом озере, многое оказалось пересмотренным. Предполагаемый древний водоем, следы которого я находил в высоких обрывах возле Переславля, «постарел» чуть ли не на двести тысяч лет. Многочисленные скважины, пробуренные вокруг Плещеева озера, показали, что озерная котловина насчитывает еще более долгую историю, чем считалось раньше, оказавшись не карстовой воронкой, а остатком узкого и глубокого русла какого-то очень древнего потока, лишь в малой своей части не заполненного ледниковыми наносами…
Так во второй половине уравнения «человек — природа», состоявшего ранее из одних неизвестных, к тому же переменных, появились сразу два постоянных фактора, не менявшихся, оказывается, на протяжении всего голоцена: рельеф и те четвертичные отложения, на которых развивались уже современные почвы. Теперь можно было взглянуть и на зеленую одежды нашей планеты, на тот ее растительный покров, по изменению которого палеогеографы счисляли периоды голоцена. Ибо если менялась растительность, должна была меняться и вся среда, окружавшая человека с ее видимыми и невидимыми обитателями. Ну, а чтобы проверить «хронометр» палеогеографов и палеоклиматологов, надо было рассмотреть его «механизм». И тут, как обычно, на помощь пришел случай.