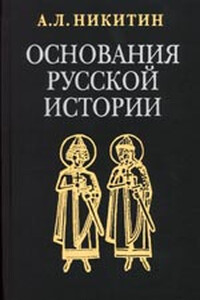Над квадратом раскопа | страница 47
Теплое продолжительное межледниковье, предшествовавшее валдайскому оледенению, наложило неизгладимую печать на формировавшийся ландшафт, растительный и животный мир края. Здесь шумели густые широколиственные леса, на дне водоемов отлагались илы и слои торфа; водоемы зарастали, давая обильную пищу рыбам. И когда постепенно произошел перелом и медленно, тысячелетие за тысячелетием холод и льды начали двигаться на юг, умирающая растительность продолжала цепляться за эту землю. Вымерзли и погибли теплолюбивые породы деревьев. Их место заняли более холодоустойчивые, такие, как ель, сосна, береза, ива. Появились карликовые формы и кустарниковые виды, образующие на современном Севере криволесье, но среди них то там, то здесь поднимались лесные острова, дающие приют птицам, мелким и крупным зверям.
Зона, прилегающая к южному краю последнего ледника, — долина Волги от Ржева до Рыбинска, полоса обширных озер и болот Верхне-Волжской низменности, окрестности Плещеева озера, озера Неро и заросших водоемов от современной Ивановской области до Рыбинского водохранилища — десятки тысячелетий назад была «зоной жизни», особенно напряженной в летние месяцы.
Лишь только приходила весна, оттаивал верхний слой почвы, — тундра преображалась. Яркими розовыми пятнами поднимались бугры, осыпанные цветами воронихи, вспыхивали белые звездочки морошки, у воды синели россыпи незабудок, на болотистых кочках выделялись бело-розовые колокольчики клюквы. Зацветал белый багульник, золотились пушистые соцветия ивы, пламенели полярные маки… И с юга к этим елово-березовым островам, к многочисленным полноводным озерам устремлялись стада оленей, тянулись в поднебесье треугольники птиц и тяжело ступали по земле мамонты.
Конечно, основная жизнь кипела южнее, в просторах умеренных степей, в лесах, сдвинутых тогда к берегам Черного моря, к Закаспию, у предгорий Северного Кавказа. Но если и в наши дни каждую весну караваны птиц, ликуя и курлыча, тянутся через тысячи километров именно на север, в тундру, на ее бесчисленные озера, если следом за ними из лесов и лесотундры, втягивая с храпом воздух, шагают на побережья полярных морей стада оленей, то нечто подобное происходило и тогда.
Доказательств можно привести много. Одним из них будут остатки стойбищ палеолитических охотников на мамонтов и северных оленей, найденные теперь уже на Каме, на Печоре, даже за Полярным кругом. Другим столь же серьезным доказательством служит анализ пыльцы из слоев того времени — из погребенной почвы, отложений на дне озер, остатков торфяников, скрытых под более поздними напластованиями.