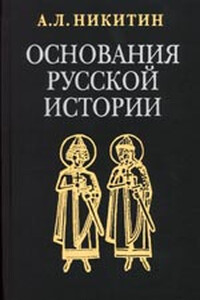Над квадратом раскопа | страница 35
Это была не забава. Это было, что называется, святая святых, магическое действо, призванное обеспечить не только плодородие оленей, но здоровье и плодородие самих саамов, «оленных людей».
В рассказе об осеннем празднестве оленеводов передо мною возникла картина первобытной магии, сохранившейся с незапамятных времен, вынесенной под осеннее северное солнце из глубин безмолвных палеолитических пещер Западной Европы. Там, глубоко под землей, европейские археологи обнаружили подземные святилища, где совершались магические обряды, а в них — изображения бизонов, северных оленей, диких лошадей. И рядом — изображения замаскированных танцоров, людей-оленей. Можно представить, как в свете дымных факелов жрецов каменного века взрослые члены рода, перевоплотившись с помощью краски, шкур и масок в животных, от обилия которых зависело благополучие и сама жизнь племени, подражали их действиям во время осеннего гона, чтобы обеспечить их размножение, обилие стад и удачную охоту. Палеолитические охотники точно так же, как саамы, кочевали по всей Европе за стадами оленей. Открытые солнцу и ветрам стойбища возле рек на европейских равнинах наполнялись жизнью только в летнее время, как то происходило на Сунгире и на других палеолитических стоянках наших мест, где не были обнаружены следы утепленных жилищ. Вывод этот подтверждают найденные на них кости молодых телят, отсутствие сброшенных рогов, что у важенок происходит в мае — июне, после рождения потомства, а у самцов — в ноябре — декабре, после завершения гона. На летних стойбищах встречаются и кости перелетных птиц и их птенцов, которых нет на зимних местах поселений.
Бронзовая бляшка с изображением шамана.
В пещеры и под навесы скал палеолитические охотники Европы возвращались к ноябрю и жили здесь до апреля — мая, как показали исследования крупнейшего историка первобытности А. Брейля. Здесь, на местах зимних стойбищ, после летних странствий собирались все члены рода на традиционные празднества.
И тогда, десятки тысячелетий назад, и теперь, всего лишь назад полвека, нужна была тайна, уединение, выбор места и времени — в соответствии с местом и временем гона оленей, с их привычками и повадками, которые воспроизводили саамы и их далекие предки.
Так получалось снова, что совсем не человек направлял и вел за собой оленей. Вникая в календарь саамов-оленеводов, записанный в памяти поколений привалами, тропами, озерами, береговыми тонями, местами отела, ягельными пастбищами, я снова убеждался, что это олени указывали человеку время, когда сниматься со стоянки и кочевать, а когда прерывать кочевье; когда можно веселиться, устраивать свадьбы, состязания, отбросив на время заботу об охране стада и добывании пищи, а когда надо неустанно бодрствовать, отряхивая слепящий снег, сбивая сон и усталость, вслушиваясь в каждый звук, теряющийся в крутящей снеговерти; когда надо приносить жертвы, навещая места поселений «праудедков», а когда — продолжать прерванное кочевье к зимовкам на озерах по хрусткой, прихваченной первым морозом и крупитчатым снежком угасающей тундре.