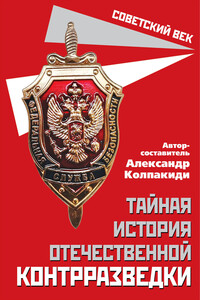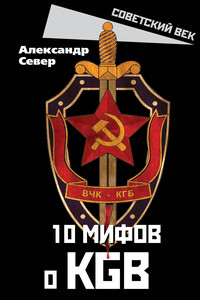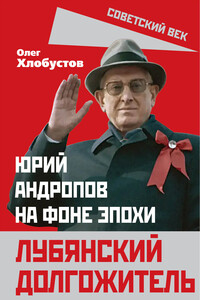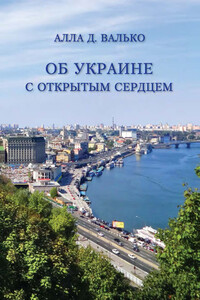Тайная история отечественной внешней разведки. Книга 2 | страница 24
Такое сложное явление, как «красная угроза», прошло в своем формировании два важных этапа. Не зря многие ученые даже выделяют первую (1917–1920 гг.) и вторую (1947–1957 гг.) «красную угрозу», тем не менее, особенно если говорить о восприятии этого явления в ФБР, мы считаем, что оба этих этапа тесно связаны друг с другом.
В целом тема «красной угрозы» в США является достаточно разработанной как в отечественной, так и зарубежной историографии. Среди отечественных исследователей так или иначе касались этой темы такие авторы, как Э. А. Иванян, В. Л. Мальков, Б. Д. Козенко, Н. Н. Болховитинов, Н. Н. Яковлев, Г. Н. Севостьянов, В. В. Согрин и др.[73] В своих работах данные авторы чаще всего рассматривали «красную угрозу» в общем контексте отношений США с Советской Россией/СССР, большей частью не акцентируя внимания на генезисе этого явления, а воспринимая его как логичное продолжение ухудшения отношений двух стран в начале XX в. Тем не менее отечественная историография дала много фактического материала о развитии этого явления и его связи с внешней и, чуть в меньшей степени, внутренней политикой США. Более пристальное внимание к такому явлению, как «красная угроза», выказали зарубежные исследователи. Такие авторы, как Ричард Пауэрс, Регин Шмидт, Мюррей Левин, Джон Хэйнс, Роберт Мюррей, Этан Теохарис и другие, рассматривали «красную угрозу» (как «первую», так и «вторую») как более частное явление, претендующее на самостоятельность в контексте внутренней политики США[74]. Ряд авторов (Пауэрс, Шмидт, Теохарис) рассматривали этот концепт в тесной связи с ФБР и его директором Дж. Эдгаром Гувером, оказавшим особое влияние на это явление сразу на нескольких уровнях[75]. Таким образом, можно сделать вывод, что зарубежная историография более детально рассматривает отдельные аспекты «красной угрозы».
Развитие «красной угрозы» принято отсчитывать с 1917 г., когда вести о революции в России дошли до американской прессы и видных общественных деятелей. Здесь стоит обратить внимание на то, что восприятие Февральской и Октябрьской революций было совершенно различным. Первая революция была на удивление позитивно воспринята на Западе в целом и в США в частности. Американские журналисты, публицисты и общественные деятели проводили множество (большей частью необоснованных) параллелей с собственной Американской революцией. Особые акценты расставлялись на буржуазно-демократическом характере революции, выросшей из стихийного всплеска недовольства масс, что преподносилось американской публике как показатель «внутренней цивилизованности» русского народа и его стремления догнать наиболее развитые страны Запада по своему социально-экономическому развитию и вступить на путь более справедливого и демократического управления