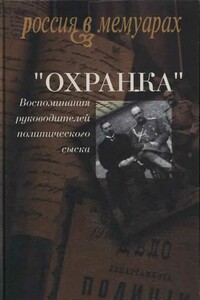Книги, годы, жизнь. Автобиография советского читателя | страница 64
Не могу не сказать, с какой искренней радостью я перечитывала строки Пастернака о Ленине из «Высокой болезни»:
Любое нестандартное высказывание о нашем вожде на фоне неуклонно расширяющегося ленинского культа имело повышенную цену, заставляло вдумываться и размышлять. В 1970 году с большой помпой праздновалось 100-летие Ленина, и буквально некуда было деться от потоков банального славословия. Памятные юбилейные медали получили все мало-мальски заметные люди, в том числе мои родители и некоторые из нашей факультетской молодежи; отношение к этим блестящим кружочкам с всемирно известным профилем было очень разным и неоднозначным: кто-то откровенно гордился, кто-то равнодушно бросал в ящик стола, а кто-то и посмеивался.
Маме и отцу гордиться в голову не приходило. А мне? Мне в эти годы страстно хотелось найти оправдание нашей кровавой истории, искреннее и подлинное подтверждение конечной правоты и справедливости выбранной в 1917 году дороги. С каким облегчением я прочитала в «Охранной грамоте»:
…наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство.
Да, здесь есть осуждение, но есть и изумленное преклонение, и самое главное – принятие этого государства в свою внутреннюю вселенную.
А еще позже абсолютной, сияющей, невероятной вершиной увиделись «Стихотворения Юрия Живаго». Чем больше перечитываю, тем глубже становится текст, особенно евангельский цикл. Кстати, христианство Пастернака, безусловно подлинное и страстное, остается для меня загадкой и искушением. Его праздничный, сияющий, «как месяца луч в углубленье дупла», по-мужски прекрасный Христос имеет право судить века человеческой истории:
(«Гефсиманский сад»)
Христос Пастернака в моих глазах значительнее, милосерднее, человечнее евангельского, его пришествие действительно могло дать начало подлинному человеческому бытию и человеческой истории:
(«Рождественская звезда»)
Но совпадает ли этот Христос с тем, о котором поведали миру Матфей, Марк, Лука и Иоанн? Не уверена. Быть может, Пастернаку удалось невероятное – постичь ту божественную истину, которая должна же существовать на свете? Не знаю. Но если верить в Христа, то, конечно, в того, которого Мария Магдалина любила так, что сетовала: