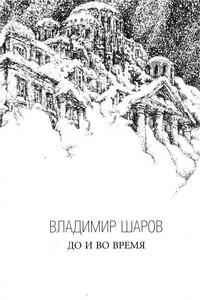Перекрестное опыление | страница 24
В Воронеже был тогда и до сих пор остается налет столичности, десяток монументальных зданий, балет – все это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако больше в нем от лишенца. Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной ему оставили едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.
После революции здесь осели многие: и дерптская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил подняться, снова встать на крыло. Все они быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко – до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Сойдясь, эти разные и опять-таки разночинные интеллигентские толки, как прежде, ставили любительские спектакли, играли в преферанс и буриме, а под Новый год крутили тарелки; снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, – длинные иглы их почти не опадали.
Бытовала тут и неплохая наука: хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи, в деревнях мешанина всяческих сект – граничность этой территории, хоть и было время всему смешаться и сойти на нет, еще чувствовалась – старообрядцы, молокане, хлысты; странное село с блеклым русым вырождающимся народом, упорно считавшим себя евреями, – то ли адвентисты, то ли потомки хазар; разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, правда, уже без немцев, – все это среди ровного пространства степи, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где пыльный и жгучий ветер давно уже должен был сдуть и смешать все.
Так получилось, что ни разу до той поры не побывав в Воронеже, я много о нем читал. Первой книгой о Воронеже и одноименной губернии стал том из «Полного георафического описания нашего отечества» под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского, по-моему, и спустя век лучшего нашего географа, социолога и экономиста. Потом среди книг в отцовской библиотеке мне попалась «ЦЧО» Пильняка и Платонова. Дальше пришла очередь других книг Андрея Платонова, который в Воронеже родился (Ямская слобода), учился, и о нем, об этом городе, и о той земле, которая, как говорили в старину, «к Воронежу тянула», писал всю жизнь.