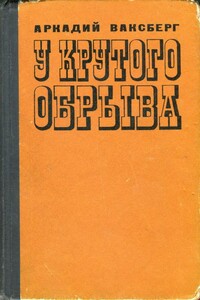Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни. В двух томах. Том 1 | страница 20
В школе вдруг появлялись и так же вдруг из нее исчезали мальчики и девочки созвучными иноязычными фамилиями, которые были тогда у всех на слуху. Это не удивительно: поблизости, в Нижне-Кисловском переулке, находился дом, где жили нашедшие убежище в Советском Союзе «выдающиеся коммунисты-интернационалисты». Один из них короткое время учился в моем классе — Влад Паукер, сын хорошо известной тогда Анны Паукер, перед самой войной, как писали советские газеты, «вырванной из фашистской тюрьмы». Пламенная румынская революционерка со счастливыми слезами на глазах прибыла в страну, где тремя годами раньше был казнен тот, чью фамилию она носила: такой же пламенный — муж и отец двоих ее детей — Марсель Паукер. Ее младшая дочь Мария, чьим отцом был еще один пламенный, французский коммунист Эжен Фрид, осталась в Париже, а потом была переправлена в бельгийскую деревушку, где под именем Розетты скрывалась от нацистов.
Влад был вдумчивым и задумчивым мальчиком — всегда казалось, что он знает гораздо больше, чем позволяет себе сказать. Тихий, непривычно вежливый и застенчивый, неуклюже сутулый, он поразил меня сначала своими непомерно большими (так мне казалось), обмороженными руками, потом — рано пришедшей к нему взрослостью. Мы сблизились — настолько, насколько это было возможно в те годы, в том возрасте и с учетом столь разных весовых категорий, в которых мы находились. Иногда меня вкусно кормили у него дома — эти, хоть и не слишком частые, обеды казались мне лукулловыми пирами в полуголодной военной Москве.
Несколько раз я был удостоен присутствия и самой Анны. Случалось, мы сидели за общим столом. Случалось, она входила в комнату, где мы болтали с Владом, чтобы снять с полки книгу или достать папку из ящика стола, и, поняв, что наш разговор идет о политике, на полном серьезе, без малейших признаков снисхождения к возрасту собеседников, включалась в диалог двух подростков. Запомнились ее непривычно короткая седая прическа, по-спортивному прямая спина, сеть глубоких морщин на высоком лбу, стальной блеск в глазах, неизменная папироса в зубах — исходившие от всего ее облика нервность и исступленность. Общаясь с ней, я вполне мог допустить, что ее пламенность существовала не только на газетных страницах, что, подчиняясь неукоснительной дисциплине, она была способна отречься не только от мужа, но и взойти, если этого потребует партия, и на дыбу, и на костер…
Впрочем, ее отречение от мужа, с которым она уже находилась в разводе, было скорее формальным, чем истинным. Даже вернувшись в спасшую ее из румынской тюрьмы Москву, она не отказалась от фамилии «врага народа» и не сменила фамилию своим детям. Хотя вполне могла это сделать — уже потому, что пользовалась в партийной среде по меньшей мере двумя псевдонимами: Софья Марин и Мария Григориас. Один из них мог бы стать ее новым именем. Не захотела…