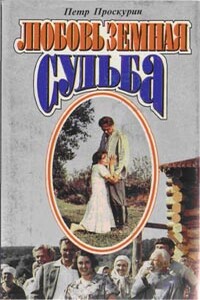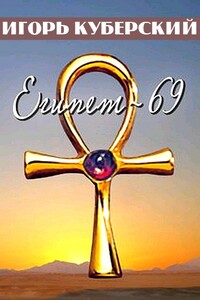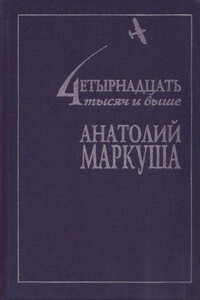Глубокие раны | страница 19
— Нет, Виктор, — Антонина Петровна отрицательно покачала головой. — Неправильно. Подожди, подожди, — прервала она пытавшегося возразить сына. — Послушай, что мать скажет. Она плохого не пожелает. Забудь и думать, чтобы бросить учиться.
— Не совсем ведь бросить! Что за беда, если я окончу институт на три — четыре года позже?
Притянув русую голову сына к своему плечу и глядя ему в глаза, Антонина Петровна попросила:
— Давай договоримся, Виктор, что ты никогда не будешь об этом говорить. Хорошо? Я не калека. Неужели ты хочешь отнять у меня последнюю радость в жизни?
— О чем ты, мама? Ты еще больна.
Антонина Петровна поцеловала сына в голову, подошла к окну, распахнула его. Вместе с ветерком в комнату ворвался оживленный воскресный шум города. Солнце лило в комнату мощный поток света и тепла.
Обращаясь больше к себе, чем к сыну, она произнесла:
— Больна? Кажется, да и давно…
Наступило молчание.
Внезапно с улицы донесся голос Фаддея Григорьевича:
— Хозяева! Да где же вы, стало быть, запропастились? Гостя некому встретить.
— Дядя Фаддей!
Виктор, раньше всегда встречавший приезд старика с радостью, на этот раз тихо подошел к нему, пожал, как равный равному, руку и, поймав встревоженный взгляд Фаддея Григорьевича, отвел глаза в сторону.
Пасечник крякнул.
— Стыдно, брат? Стыдно. Мне тоже, старому, эх, как стыдно, Витька! Ну да ладно — потом поразмыслим, всякому овощу, стало быть, свой срок.
Поставив объемистую, плетеную из ивовых прутьев корзину на пол, старик подошел к невестке.
— Здравствуй, Антонина, давненько я тебя не видел. — Глядя в ее изменившееся лицо, с горечью добавил: — Да… Так-то вот. Жизнь — она того… Кому мать родна, кому — мачеха. Говорил я ему не раз — не кончишь добром…
Пасечник опустил седую, как шар одуванчика, голову.
Стараясь нарушить тягостное молчание, воцарившееся в комнате, Виктор пододвинул старику стул.
— Садись, дядя. Я сейчас в магазин сбегаю — ты же угощал меня медовухой. Дай, мам, десятку.
— Долг, стало быть, платежом красен? Нет, племяш, водки я теперь в рот не беру, а другое — полегче — есть.
Откинув крышку корзины, Фаддей Григорьевич достал из нее четверть медовухи.
— Принимай, Антонина. Мне тут старуха столько насовала — еле допер. Тут тебе и гусь, и мед, и яблоки разные…
— Ну зачем вы столько?
— Ладно, ладно — хватит. У нас, сама знаешь, — есть некому. Трудодень последние годы богатый, — куда нам, старикам? Пойдем, племяш, на базар, пока мать завтрак состряпает, — обратился он к Виктору. — Скажу своим, чтобы не ждали. Поживу у вас, стало быть. Не прогоните?