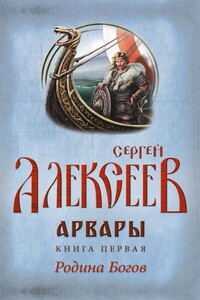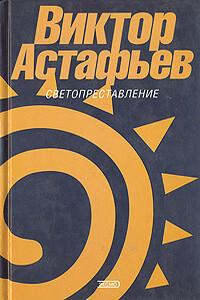Сибирский рассказ. Выпуск III | страница 27
Он что-то сказал товарищам по-своему, вышли мы на улицу, в сквер напротив. Вечер, помню, ясный, теплый, травка зелененькая, первые листики на деревьях распустились, люди кругом гуляют, а мы, как два петуха, стоим под тополем, покачиваемся — успели-таки набраться — и заводим друг друга. Он говорит: «Ну пожалста, ударь. Ну пожалста», — а я ему: «Нет, ударь сначала ты, для затравки». Он долго думать не любит — хлесть меня, да мимо, так, по вороту, пуговицу только оторвал. Может, рука нетвердая была, а может, действительно для затравки. Ну я тогда врезал ему, он упал. Тут как раз его друзья высыпали — и ко мне, показалось им, что я его убил. Крик подняли, схватили меня, и я не понял: или они меня бить хотят, или в милицию вести. Хорошо, Арсланов оклемался — поднял его один из них. Они спрашивают, где он живет, — я говорю: «Да знаю, сам отвезу его». Арсланов тоже что-то промычал в подтверждение; они нас отпустили. Повез его в такси домой, так он меня, пока ехали, в плечо укусил и все бормотал, что спасибо мне за Лилю и что из нее, пожалуй, еще выйдет хорошая жена. Стал я дома стягивать свитер и рубаху, а плечо-то кровью запеклось. Потом, когда приехал на сборы, военный врач подполковник, как увидел меня голого, так и давай хохотать, ну просто покатывается со смеху: «Вот, — говорит, — так баба тебе попалась! Вот так разделала тебя!» Я ему объясняю, что никакой бабы не было, это друг меня, а он хохочет, за живот держится. «Ты мне, — говорит, — сказки не рассказывай, знаем мы этих друзей». — А сам сквозь слезы слова договорить не может, так хохочет, что, кажется, сейчас вместе со слезами и очки по лицу размажет.
Слушай, а к чему я это все рассказываю? Ах, да, к тому, что и нам не чужды были благие порывы, романтика души. Только вот куда они потом деваются? Они слетают с нас, как листья, когда нас немного потрясет жизнь, или как легкая одежда, которая быстро рвется, и остаемся мы голенькими, какие есть, с нашими пороками и с нашими первобытными инстинктами. Они, наши благие порывы, не вросли в нас, не стали нашей кожей, нашими чертами характера, нашими физиономиями. Никто о нас не позаботился, не считая разве нескольких, нудных нотаций или тех нескольких хороших книжек, что попались нам в руки в свое время.
Нет, я не о том, будто кто-то виноват, что я стал вором, казнокрадом. Нет, я именно о том, как легко они с нас слетают, эти чистые одежды нашей молодости, юности — той поры, когда мы читали хорошие книжки, в театры ходили, искусством интересовались, спорили обо всем до хрипоты, верили свято в дружбу, в любовь и не просили платы за свой энтузиазм. Как-то, знаешь, даже стеснялись своей положительности, скрывали ее, прятали за показной грубостью и все же старались сохранить. Пусть наивно это все было, но ведь без наивности, без этой святой простоты, поверь, нет света, нет какою-то огня, как если бы мы сразу рождались стариками, — жизнь была бы черной-пречерной дырой, вечным черным небом без звезд, сплошной тягомотиной. Ты заметил, что я говорю «наша молодость», «наша «юность»? Потому что, насколько я знаю, у части нынешнего юношества этого ничего нет, исчезло, улетучилось куда-то, теперь их: интересуют только деньги, тряпки, вещи, все внешнее, показное, товарное. Конечно, есть и другое юношество, может, я просто не вижу, не знаю его? Дай бог, если я только не вижу, а оно есть. Действительно оно должно быть, иначе ведь вообще ничего не будет, не будет у них своих Молибденов, а будут одни только круглые рубли вместо глаз. У нас-то все это было, у нас этого уже не отнять. Жаль только, что были слабоваты и нас легко затягивала проза быта, что научились считать деньги, жрать вино, сквернословить, что научились быть тупыми, ортодоксальными, жесткими!