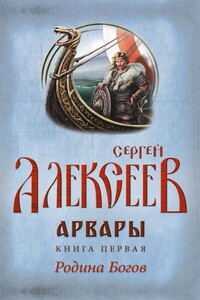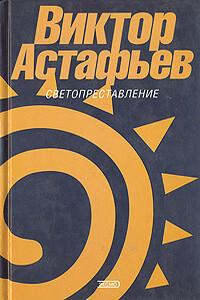Сибирский рассказ. Выпуск III | страница 17
Остановил машину, бегу, всмятку, думаю, и птица, и яйца… Аж вот сердце зашлося, как с большого похмелья. Подбегаю. Все на месте! Птица сидит на гнезде — попала меж гусениц, меж полозьев. И усидела. Это ж какое мужество, какая героизма! — Голос Алехи возвысился и оглушил, должно быть, и самого Алеху. Он прервался, ерзнул на сиденье, будто удобней устраивался, и все под ним заскрипело и даже чего-то, какая-то гайка или железяка, тонко и жалобно проскулило. — И вот, сидит, стало быть, капалуха, глаза закрыла. Меня не видит. Ничего не видит. Ничего не слышит. И вроде бы как завяла, мертвая сделалась. Я потрогал ее пальцем: перо свалялось, все мясо в кости провалилось, но тело горячее. «Сиди, — говорю, — не боись меня!». Оглянулся: никого нету, погладил ее украдкой, а то ведь оборжут.
Назавтре возвращаюсь в старый поселок — неужто мать еще на гнезде? Зренье напряг. Сидит! Я остановил трактор, газую, спугну, думаю. Нет, как камень сделалась птица. Ломик взял, по кабине зублю. Сидит! Ну, че делать? Поехал. Осторожно, осторожно… Оглянулся — все в порядке!
И так вот восемь рейсов я сделал. И ни разу, ни разу пташка не сошла с гнезда! Ни разу! Нельзя уж было, видно, ни на минуту яйца открывать — остыли бы. — Леха прервался, отмахнул от лица дым, который пускал на него сосед. — Одним рейсом вез я наше бабье: поваров, там, пекарей, бухгалтеров, учетчицу и просто лахудров. Вот, думаю, покажу я имя. И расскажу. Остановлюсь специально, выгоню с вагончика — и дам урок етики и естетики: как птичка неразумная трактор над собой и сани пропускала. Это ж подумать — и то ужасть! Это ж курица домашняя не выдержит! Улетит и нестись перестанет. Но уж не было капалухи на гнезде. Издаля еще заметил: белеют скорлупки в лунке, а матери нету. Ушла. И птенчиков увела. Сразу, видать, и увела, как вылупились. А гнездо — чисто шапка мушшинская, большая, перышки в ем. Я гнездо взял в кабину. Храню. Как школа на участке новая откроется, так и отнесу туда. И расскажу ребятишкам про капалуху…
Алеха смолк и сомкнул не только глаза, губы, но и весь сомкнулся — надолго, накрепко. Наговорился.
А напарник его или попутчик удивленно смотрел на Алеху, словно видел его впервые, и, погасив окурок об обшивку автобуса, прочувствованно молвил:
— С меня пол-литра, Алеха! Нет! — рубанул он себя по колену. — Литра! Мог переехать птицу? Запросто! Потом ее сварил бы — и на закусон. Не сварил! Не съел! Это ж подвиг, товваришши?! Про это надо в газетках писать, а не про бабов-курвов, что детей плодят и по свету рассевают…