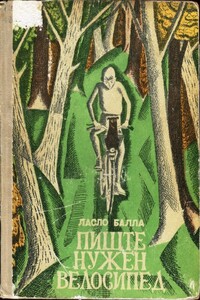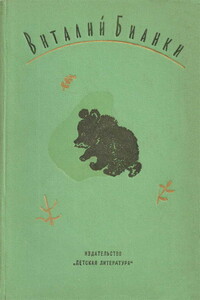Толстяк | страница 7
— Конечно, слышал. А при чем тут они?
— А при том, что танк их носит имя дяди Ивана.
— Врешь.
— Не сойти мне с этого места. Танк этот был построен на деньги дяди Ивана. Он пожертвовал на строительство танка все свои сбережения, а ты ведь сам знаешь, что он — лучший охотник во всей республике.
— Ага…
— И такого человека ты назвал дезертиром.
— Ага…
— Шпионом!
— Ага…
— И тебе не стыдно?
И в самом деле неловко получалось. Как я теперь посмотрю в глаза дяде Ивану, если вообще удостоюсь такой чести? Тут уж самое роскошное жаркое из медвежатины застрянет колом в горле. Только бы Мишка не проговорился ему о том, что я здесь наплел.
— Мишка, забудь обо всем этом. Это у меня просто так вырвалось, без всякой задней мысли. Просто разозлился я на то, что ты не хочешь взять меня с собой к дяде Ивану.
Но Мишка уже не дразнился и не донимал меня, а даже по-дружески похлопал по плечу.
— Посмотрим, может, удастся что-нибудь сделать, — пробормотал он. — Я поговорю с дядей Иваном.
Внезапно до нас донесся крик совы. Один… Второй… Третий. У меня по спине забегали мурашки. Я глянул на Мишку: весь напрягшись, он вглядывался в чащу.
— Дядя Иван зовет тебя, — прошептал я.
Он не отозвался ни словом. Одним прыжком он достиг кустов и скрылся в зарослях. Сова тем временем продолжала кричать, а может, это была какая-то другая птица — сам не знаю.
Отец принес с работы четверть буханки настоящего хлеба — с блестящей коркой почти шоколадного цвета, а на срезе, как изюминки, виднелись зернышки плохо размолотого зерна.
Я завороженно вглядывался в него, как в чудесное видение, как в магический кристалл. Хлеб лежал в центре стола, и столешня казалась мне каким-то огромным пространством, полем с волшебной горой посредине. И запах! Всю избу наполнял теплый, знакомый, чуть кисловатый аромат, от которого глаза сами наполнялись слезами.
Я следил за действиями мамы: вот она берет со стола нож, потом — хлеб, как бы взвешивает его на ладони, а потом медленно погружает лезвие в это коричневое великолепие. Отрезаемые куски были очень тонкие, почти прозрачные, и меня вдруг охватил страх, что они обязательно раскрошатся или вообще растворятся в воздухе. Но зато их получилось целых восемь штук — восемь кусков самого настоящего хлеба.
Дожидаясь раздела, я скорчил самую жалостную мину, стремясь любым способом пробудить мамино сочувствие. Мама глянула сначала на меня, потом на отца, у которого был такой вид, будто все происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения, — он старательно застегивал телогрейку. «Тем лучше», — подумалось мне.