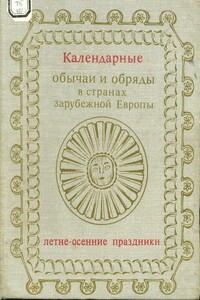Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования | страница 22
Модернистический антипозитивизм, обернувшийся «неопозитивизмом», являл собой, быть может, наиболее энергичную и целеустремленную, но никак не монопольную интеллектуальную силу своей эпохи, особенно в ее начале. Другим проявлением кризиса эмпирического знания стала мощная волна неоромантического идеализма, стремившегося не столько перестроить позитивистские классификации в новые абстрактно-реляционные порядки, сколько утвердить принципиальную внеположность идеальных ценностей любой механически упорядоченной системе. Эпоха начала века стала свидетелем возрождения динамического подхода, стремившегося представить различные жизненные процессы, и в особенности духовную жизнь, в виде непрерывно развертываемой «длительности», не укладывающейся в параметры какого бы то ни было фиксированного устройства. Читатель понимает, что я имею в виду в первую очередь идеи «длительности» и «творческой эволюции» А. Бергсона, которые мне представляются наиболее обобщенным философским выражением этого направления мысли[30]. В 1900–1920-е гг. идеи Бергсона получили широкий отклик как в естественных науках (прежде всего, в «неоламаркистской» биологии), так и, в особенности, в различных художественных явлениях и теоретических системах, относящихся к вопросам языка и эстетики, — от Пруста и Мандельштама до К. Фосслера[31] и Л. Шпитцера, Г. Шухардта и Н. Марра[32], Бахтина и Э. Ауэрбаха.
Стремление преодолеть биполярную протипоставленность идеальной сущности вещей и их эмпирического бытия, сознающего себя субъекта и окружающей его среды являлось также определяющей чертой русской философской мысли начала века. Ее истоком послужила критика В. Соловьевым западноевропейской философской традиции, все развитие которой, по мысли Соловьева, не способно было выйти из русла этой оппозиции, попеременно склоняясь то к одному, то к другому ее полюсу[33]. В эпоху своего расцвета (1900–1910-е гг.) русской идеалистической философии удалось создать картины общественной и душевной жизни человека, вырывающиеся из рамок дилеммы эмпирического — рационального. Из этой философской основы вышли два явления 1920–1930-х гг. в области изучения языка и мысли, к которым я ощущаю особую близость и на которые мне еще не раз предстоит ссылаться: концепция гетероглоссии и диалогической открытости коммуникативной деятельности Бахтина и наблюдения Выготского над динамическим характером внутренней речи в ее соотношении с мышлением. Я уже не говорю о таких художниках, как Мандельштам, Пастернак, Кандинский, высказывания которых о природе языка и образного мышления, при всей своей идиосинкретичной метафоричности, представляют собой важное явление в истории филологической и эстетической мысли начала века.