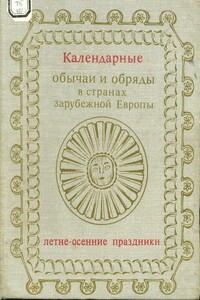Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования | страница 21
Другой чертой, которую мышление абстрактными конструкциями унаследовало от позитивизма, было стремление к безличной объективности. Изучение предмета призвано было раскрыть его имманентную сущность, заключенную «в себе и для себя» (согласно знаменитой формуле Соссюра) и не зависящую ни от личности познающего субъекта, ни от личности того, чье «употребление» предмета для нужд и в условиях его жизни поставляет сырой материал для концептуальной модели. Субъективность представляется пороком, обесценивающим описание; в ней видят проявление того самого хаоса и разрозненности эмпирического существования, борьба с которыми и преодоление которых составляет главную цель научного осмысливания предмета. Представление о том, что «истинная сущность» предмета не существует «в себе и для себя»[27], но неотделима от позиции субъекта по отношению к этому предмету[28] и изменяется вместе с этой позицией, равным образом чуждо исследователю, мыслящему свой предмет в категориях абстрактной конструкции либо эмпирической классификации.
Наконец, еще одна характерная черта модернизма, на которую мне хотелось бы обратить внимание, — это культ «нового», понимаемого как полная и бескомпромиссная противоположность «старому». Модернистское самосознание предполагает постоянную борьбу против рутины, привычки, автоматизма повседневного мышления и существования. Конечно, наличный материал — будь то языковые «единицы» или литературные «приемы» — многократно используется, но используется именно в качестве строительного материала, из которого всякий раз требуется что-то построить заново: только так возможно противостоять мертвящей «автоматизации», которая постоянно грозит превратить мысль в бессмысленную рутину. Новое все время борется со старым, деавтоматизированное — с автоматизированным, как жизнь и смерть, как Ормузд и Ариман[29]. Применительно к языку такое мироощущение ведет к убежденности в том, что каждый говорящий в каждый момент языковой деятельности заново создает, пользуясь известными ему правилами, новые речевые построения из первичных строительных элементов. Тот факт, что и в своей, и в чужой речи мы то и дело встречаем хорошо нам знакомые, вновь и вновь повторяющиеся (в точности либо с вариациями) речевые блоки, текстуальные фрагменты, цитаты и полуцитаты, которые мы все помним и немедленно узнаем, при всей своей эмпирической очевидности, либо совсем игнорируется, либо оттесняется на’ периферию картины языка, под такими характерными именами, как «клише», «формулы», «шаблоны», «идиомы». Подразумевается, что речь, изобилующая «шаблонами», — это плохая, неценная речь; это та рутина, которая постоянно нарастает, как ржавчина, на поверхности языка, мешая созданию «новых» построений.