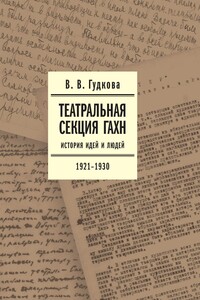Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов | страница 22
Сострадание, понимание, милосердие, великодушие, совестливость, доброта — все эти слова не из лексикона большевиков.
Беспартийный дядя просит о сочувствии племянницу-комсомолку:
«Павел Иванович. Таточка. Не сердись. Ведь мы — конченые люди, а вы — победители. Так надо же быть великодушными.
Тата. Далеко на великодушии не уедешь» (Т. Майская. «Случай, законом не предвиденный»).
Неуступчивость к «просто людям» соединена в типе героя-коммуниста с готовностью делегировать партии, ее органам, руководителям решение собственной судьбы, даже если придется пожертвовать любимым человеком, сменить профессию, уехать в другой город, переехать из города в деревню и наоборот и т. д.
Даже в практических конкретных делах коммунисты склонны преувеличивать роль идеологии, им свойственны чрезмерная вера в догмы избранной теории, начетничество.
Служащий Щоев (А. Платонов. «Шарманка») растерян: «Десять суток циркуляров нет — ведь это ж жутко, я линии не вижу под собой!»
{40} Персонажи пьесы Афиногенова «Ложь» (1-я редакция) опасаются фанатичной партийки Горчаковой по прозвищу «Цыца»:
«Говорят, Цыца работает над десятичной классификацией партийных преступлений».
Старый большевик Накатов, позволяющий себе сомневаться в новейших установках партии, усмехается:
«А ты борись, как она с <…> отставанием, забеганием, загниванием… И будешь силен. Вылавливай в каждом оттеночки, и каждый будет тебя бояться».
Молодая девушка-общественница Нина (Ю. Слезкин. «Весенняя путина») произносит, как магическое заклинание, смысл которого темен и никому, кроме нее, не понятен:
«Левый загиб — обязательно сигнализирует правую опасность…»
Тем не менее знание революционного катехизиса (даже не теории в целом, а лишь ее начатков, азов) помогает коммунисту выбрать верное решение в любой отрасли человеческой деятельности. В споре политической теории с профессиональным знанием, компетентностью специалиста, победу всегда одерживает теория.
В пьесе Ромашова «Бойцы» о современной концепции военного искусства спорят два героя: Гулин, командир корпуса, и Ершов, политинспектор. Гулин полагает, что главное для армии — это овладение новейшей техникой. Ершов уверен, что основное оружие СССР — народ, массы. Прав оказывается Ершов, то есть политработник поправляет военспеца. Гулин меняет взгляды на военную науку.
Студент Ветров шутит: «Шахматы — единственное поле, где люди играют без партийных программ». Но секретарь ячейки Шибмирев не согласен: «По-моему, на стиле игры партийность тоже сказывается» (Афиногенов. «Гляди в оба!»).