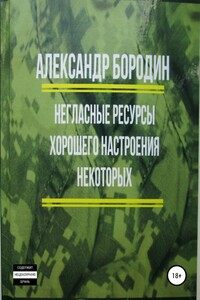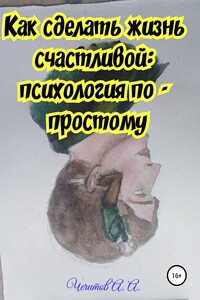, Россия, как всегда, осталась позади западной цивилизации. Однако целью Таганцева было не запоздалое просветительство, а очищение сферы права от соображений религиозного, морального, психологического и медицинского порядка, а также разделение власти внутри законодательной сферы. Именно в этом контексте и в профессиональных юридических терминах Таганцев принялся за разрешение проблемы самоубийства. Выступая за декриминализацию самоубийства, он решит тельно отверг главный аргумент медиков-позитивистов, утверждая, что самоубийство нельзя считать преступлением отнюдь не потому, что оно является результатом душевной болезни (душевное состояние самоубийцы, указывал Таганцев, даже по данным современной статистики, во многих случаях «остается нераскрытым»)
[215]; Таганцев исходил исключительно из понятия об автономности юридической сферы, а самоубийство послужило удобным примером для иллюстрации этого принципа: закон призван регулировать отношения между членами общества, и так как человек не находится в юридическом отношении к самому себе, самоубийство (пpeступление, субъект и объект которого совпадают) не может быть предметом законодательства
[216]. На примере самоубийства Таганцев продемонстрировал и другие нарушения юридических принципов в русском законодательстве, прежде всего — конфликт между различными юрисдикдиями. Так, он отметил, что, объявляя недействительным завещание самоубийцы, уголовное право вторгалось в юрисдикцию гражданского права
[217], а беря на себя решение вопроса о похоронном обряде — не только в сферу канонического права, но и в область «правосудия божеского <…> совершенно независимую от права»
[218].
В 1871 году в недавно созданных юридических журналах возникла полемика по вопросу о статусе самоубийства. Либеральный правовед Петр Обнинский в статье об уголовном преследовании покусившихся на самоубийство привлек внимание к тому, что в ходе реформ путаница в вопросе о самоубийстве лишь усугубилась. Новый «Устав уголовного судопроизводства», в статье 16, предписывал, что судебное преследование надлежит прекращать со смертью обвиняемого. Это положение находилось в явном противоречии со статьей 1472 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» о судебном преследовании самоубийц, которая, как и весь кодекс, сохранила свою силу и после реформы судопроизводства. В судебной практике в сложной ситуации находились и случаи подытки к самоубийству, попадавшие в сферу действия различных юрисдикции. В самом деле, кому надлежит рассматривать такие случаи — окружным судам или духовным? Часть экспертов по праву полагала, что, в силу того, что статья о попытках к самоубийству «географически» расположена в пределах «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (статья 1473), это преступление должно было рассматриваться уголовным (т. е. окружным) судом. Другие указывали на то, что в силу нового «Устава уголовного судопроизводства» преступления, за которые не предполагается иного наказания, нежели церковное покаяние, подлежат церковным судам. Присоединившись именно к этой точке зрения, Обнинский привел дополнительный аргумент. Статья 1473 предполагала, что «покусившийся в здравом уме лишить себя жизни предается,