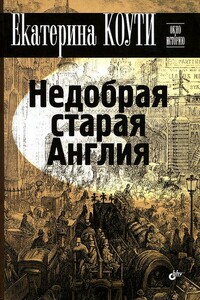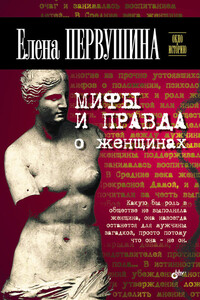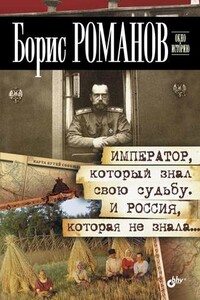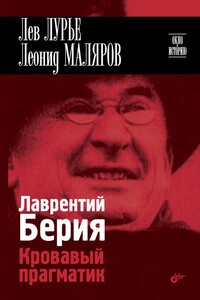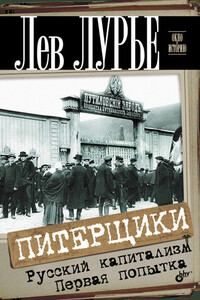Над вольной Невой. От блокады до «оттепели» | страница 31
Илья Глазунов никогда не скрывал того, что он выходец из православной монархической семьи. Его полотна — послание убежденного человека. Неслучайно ему поставили «тройку» за диплом, долго не принимали в Союз художников. Другое дело, что идеология верхов постепенно становилась все менее коммунистической и все более глазуновской, и он естественным образом стал любимцем сначала первых секретарей обкомов, а потом — губернаторов и олигархов.
В параллельном жизнеописании арефьевцев и Глазунова важно то, что первые остались навсегда в Ленинграде (за исключением самого Арефьева, последние полгода жизни проведшего в Париже), а Глазунов уехал в Москву. «Главное — величие замысла», — говорил Иосиф Бродский. В Ленинграде трудно продаться: тебя не покупают, в Москве проще идти на оплаченные компромиссы.
Сам стиль живописи Глазунова подразумевает популярность и хороший спрос. Это только на словах он поклонник Шишкина и Сурикова. На деле он преподносит свои идеи совершенно в духе времени как условные, хорошо узнаваемые символические образы. Будь у Ильи Глазунова доля самоиронии, его можно было бы назвать первым русским постмодернистом. Ввиду же его абсолютной серьезности трудно спорить с тем, что картины Глазунова — китч. Другое дело, что это еще не приговор. Картины Сальвадора Дали тоже не являют собой образчик хорошего вкуса, однако это обстоятельство не мешает им выставляться в лучших музеях мира.
История соперничества «передвижников» и «французов» завершилась без победителей и проигравших. В 1977 году опальный левак Арефьев, эмигрируя, смог вывезти в Париж свои картины отчасти благодаря участию своего однокашника Ильи Глазунова.
Для зрителя в конечном итоге важно не разобраться в споре, а отстраниться от него. Сейчас не имеет значения, что думал Крамской о Семирадском. С уверенностью мы можем говорить только одно: в 1944 году в Среднюю художественную школу поступили два человека, сыгравшие огромную роль в русском искусстве второй половины XX века, один — для его внутренней эволюции, другой — в качестве популяризатора и пропагандиста «русской идеи».
Поэт, тиран, шпион
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век.
Из третьего посвящения к «Поэме без героя» А. Ахматовой
«Милым мужем» не стал Ахматовой знаменитый английский философ и литературовед сэр Исайя Бе́рлин. «Смущение» века — начало холодной войны. Ахматова считала: именно ее встреча с британским дипломатом в Фонтанном доме привела мир на грань ядерного уничтожения. И хотя поэты порой склонны придавать излишне провиденциальное значение происшедшему с ними, в данном случае Ахматова была, кажется, права.