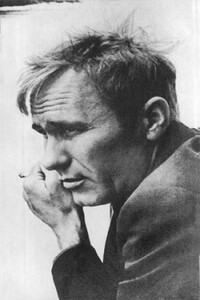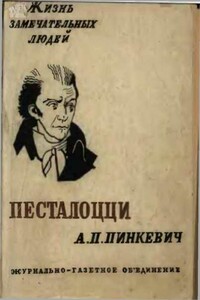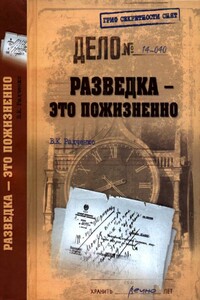Лев Толстой, или Русская глыба на пути морального прогресса | страница 17
«Уйти, убежать он стремился давно. Еще в 1884 году писал в дневнике:
— Ужасно тяжело. Напрасно не уехал… Этого не миновать…»
«В 1897 году опять совсем было решил уйти, даже написал прощальное письмо Софье Андреевне — и опять не осуществил своего решения: ведь бросить семью — это, значит, думать только о себе, а каково будет семье, какой это будет для нее удар! Он тогда писал:
— Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому религиозному человеку хочется последние годы жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, но не кричащего разногласия со своими верованиями, со своей совестью…
То же писал и в ночь бегства:
— Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни…
К бегству подбивали его и со стороны. За месяц до бегства он писал: „От Черткова письмо с упреками и обличением“, — за то, что он, Толстой, все продолжает жить так, как живет. — „Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти ото всех“.»
«Почему он бежал? Конечно, и потому, что „тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом“, как говорил Будда. Конечно, и потому, что не стало больше сил выдерживать многолетние раздоры с Софьей Андреевной из-за Черткова, из-за имущества… Софья Андреевна, заболевшая в конце концов и душевно и умственно, довела уже до настоящего ужаса своими преследованиями, и уже крайних пределов достиг стыд — жить в безобразии этих раздоров и в той „роскоши“, которой казалась ему жизнь всей семьи и в которой и сам был принужден жить. Но только ли эти причины побуждали к бегству?
— Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших, — писал он в своем дневнике.
(…)
— Если бы я был один, я был бы юродивым, то есть ничем бы не дорожил в жизни…
— Надо и в писании быть юродивым…
Он с радостью говорил своей старшей дочери Татьяне Львовне незадолго до бегства из Ясной Поляны, что он мечтает поселиться в ее деревне, где его никто не знает: „Я там могу ходить и просить под окнами милостыню“. Бесконечно знаменательны эти слова, — эта мечта быть юродивым, ничем не дорожащим в жизни и всеми презираемым, стать никому не известным, нищим, смиренно просящим с сумой за плечами кусок хлеба под мужицкими окнами. Ужели и впрямь, как думают это еще и до сих пор, так долго стремился он убежать из Ясной Поляны только ради освобождения себя от ссор с детьми и женой? Ведь еще юнкером испытывал он этот „экстаз свободы“, счастье думать, что нисколько он не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто „такой же комар или такой же олень“.