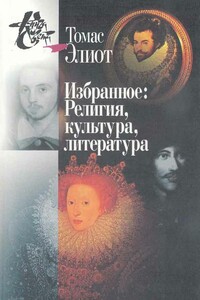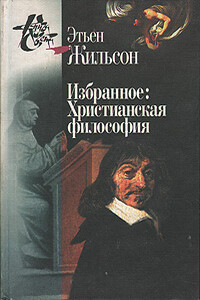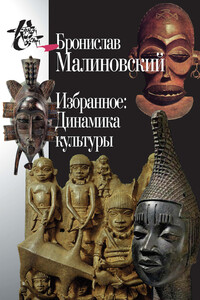Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике | страница 35
Но еще более решительной была атака с противоположной стороны, со стороны анализа природы самих ценностей. Ценности требовали своего осуществления в жизни и посредством жизни. Возникал вопрос: как это возможно, если ценности онтологически не являются частью жизни, если между ценностями и жизнью нет связи? Как может заповедь, источник которой находится вне жизни, иметь какое-то влияние на жизнь? На этот вопрос невозможно ответить, если жизнь описывается в терминах механической необходимости. Но даже если мы утверждаем наличие свободы (ради теории ценностей вступая в онтологическое противоречие с научным детерминизмом), все равно остается вопрос: как могут заповеди, источник которых находится вне жизни, налагать обязанности на людей, с бытием которых они не имеют никакой сущностной связи? И снова теория ценностей неспособна дать ответ. Замалчивать эти вопросы уже невозможно. Что является онтологическим основанием для ценностей? Каким образом то, что мы называем ценностями, укоренено в бытии как таковом? И более того: есть ли смысл вообще сохранять теорию ценностей? Не лучше ли задаться вопросом о тех структурах реальности, на которых базируется этика? Иными словами, не следует ли из самой теории ценностей, что ее необходимо заменить онтологией?
Но даже соглашаясь с этой критикой теории ценностей, можно попытаться избежать онтологической альтернативы, предложив другие альтернативы. Первая из них – прагматическая. Прагматизм утверждает, что этические нормы суть объективация человеческих отношений. Они устанавливают правила, предписывающие наиболее адекватное с прагматической точки зрения поведение. Но немедленно возникает вопрос: адекватное чему? Всякая ситуация допускает неоднозначное толкование с точки зрения этики, и на вопрос об адекватности возможны разные ответы. Прагматическое избегание онтологии (осознанной онтологии, поскольку неосознанная всегда имеет место) не достигает цели, так как приводит к вопросу о критерии прагматической адекватности. Вторая, отчасти противоположная, альтернатива – богословская. Этические нормы даны Богом. В этом и заключается их обоснованность. Такое решение, очевидно, объясняет ту особенность морального опыта, которую не в состоянии объяснить ни прагматизм, ни теория ценностей, – безусловный характер нравственного императива. Но освобождает ли богословская альтернатива от онтологии? У нее есть две возможных интерпретации: первую я назвал бы гетерономной, вторую – теономной. Первая понимает моральные заповеди как выражение божественной воли, суверенной и не имеющей критериев. Ее нельзя оценивать с точки зрения адекватности человеческой природе. Ей необходимо повиноваться, так как она дана в откровении. Но тогда возникает вопрос: почему кто-то должен повиноваться заповедям божественного законодателя? Чем они отличаются от приказов какого-нибудь тирана-правителя? Он сильнее меня. Он может меня уничтожить. Но не страшнее ли то разрушение, которое будет следствием подчинения моего личностного центра чуждой воле? Разве это не прямое отрицание нравственного императива? Другой способ богословского обоснования нравственного императива – теономный. Он позволяет избежать деструктивности гетерономного способа. Но именно по этой причине он оказывается онтологическим. Теономная интерпретация утверждает (в согласии с преобладающей тенденцией классического богословия), что данный Богом закон – это сущностная природа человека, указанная ему как закон. Если бы человек не был отчужден от себя самого, если бы его сущностная природа не подверглась искажению в его фактическом существовании, перед ним не было бы никакого закона. Закон не есть что-то чуждое человеку. Это естественный закон. Он представляет его истинную природу, от которой он отчужден. Всякая обоснованная этическая заповедь – это выражение сущностного отношения человека к самому себе, к другим и к миру. Это единственное, что делает ее обязательной, а ее отрицание – саморазрушительным. Только этим объясняется безусловный характер нравственного императива, каким бы спорным и условным ни было его содержание. Теономное решение с неизбежностью приводит к онтологическим проблемам. Если на Бога не смотрят как на чуждого и деспотичного законодателя, если Его власть не гетерономна, а теономна, значит, приняты определенные онтологические предпосылки. Теономная этика включает онтологию. И кроме того, она верифицирует онтологические основания, на которых покоится. Онтологические утверждения о природе любви, силы и справедливости подтверждаются тем, что позволяют решить неразрешимые иным способом этические проблемы любви, силы и справедливости. Чтобы показать, что дело обстоит именно так, необходимо рассмотреть этические функции любви, силы и справедливости в сферах личных отношений, социальных институтов и в сфере священного. В первой сфере ведущую роль играет справедливость, во второй – сила и в третьей – любовь. Но все три принципа действуют в каждой из этих сфер. А сфера священного присутствует в других сферах как некое качество и лишь в некоторых отношениях может рассматриваться как самостоятельная сфера. Итак, мы будем говорить вначале о справедливости, любви и силе в человеческих отношениях, затем о силе, справедливости и любви в социальных институтах и затем – о любви, силе и справедливости в отношении к священному.