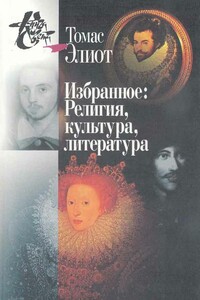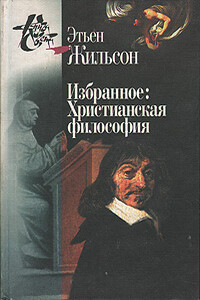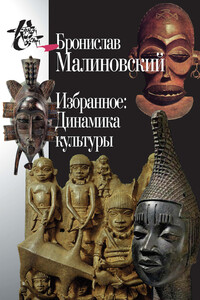Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике | страница 34
Надо остерегаться того, чтобы не оказаться несправедливым к себе в отношениях любви. Потому что это всегда будет несправедливостью по отношению к тому, кто принимает нашу несправедливость к самим себе. Он лишается возможности быть справедливым, так как вынужденно злоупотребляет нашим отношением к нему.
Любовь не делает больше, чем требует справедливость, любовь есть высший принцип справедливости. Любовь воссоединяет; справедливость сохраняет то, что должно соединиться. Это форма, в которой и благодаря которой любовь делает свое дело. Справедливость в высшем смысле – это творческая справедливость, а творческая справедливость – это форма воссоединяющей любви.
V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях
Онтология и этика
В первых четырех главах я попытался заложить онтологический фундамент, на котором должны строиться рассматриваемые в последних трех главах этические структуры. Но эта архитектурная аналогия адекватна лишь отчасти. На самом деле невозможно отделить нижние структуры от верхних: нельзя рассматривать онтологические основания любви, силы и справедливости безотносительно к их этическим функциям, а их этические функции – без постоянных отсылок к их онтологическим основаниям.
Этика – это наука о нравственной жизни человека, которая поднимает вопросы о корнях нравственного императива, критериях его обоснованности, истоках его содержания, силах для его осуществления. Ответ на каждый из этих вопросов прямо или косвенно зависит от учения о бытии. Корни нравственного императива, критерии его обоснованности, истоки его содержания, силы для его осуществления – все это можно исследовать только исходя из анализа человеческого бытия и универсального бытия. В этике не существует ответов, которые не опирались бы явно или неявно на утверждение о природе бытия.
Наиболее значимой попыткой сделать этику независимой от онтологии была философия ценностей. Если философию вообще можно датировать, это была теория ценностей, возникшая еще до середины XIX столетия. Причины ее появления и доминирующего положения очевидны. После так называемого упадка классической немецкой философии, особенно системы Гегеля, объяснение природы и человека стало делом механистической науки и материалистической онтологии. Этика стала рассматриваться как проблема биологии, психологии и социологии. «То, что должно быть» трансформировалось в «то, что есть», норма – в факт, идея – в идеологию. В этой ситуации ответственные философы искали путь к философскому обоснованию тех элементов реальности, от которых зависели человеческое достоинство и смысл существования. Они назвали этот путь учением о ценностях и утверждали, что ценности – как практические, так и теоретические – имеют основание в самих себе. Эти ценности не зависят от порядка бытия – такого бытия, каким его видела натуралистическая философия. Поскольку онтология в то время была материалистической, упомянутые философы отвергали любую попытку дать онтологическое обоснование сферы ценностей. Добро, красота, истина выше бытия. Эти понятия описывают то, что «должно быть», а не то, что «есть». Это был остроумный способ сохранить обоснованность этических норм, не вступая в противоречие с реальностью, как ее представляла себе редуцированная до материализма натуралистическая философия. Но этот путь был заблокирован с обеих сторон. Со стороны науки объединенные силы биологии, психологии и социологии отказывались освободить ценности от своего влияния, считая, что научная правота на их стороне. Ученые старались доказать, что биологических, психологических и социологических законов достаточно, чтобы объяснить возникновение ценностей, как индивидуальных, так и социальных. Они пришли к выводу, что ценности – это суждения. Ни их обоснованность, ни их возникновение, развитие и упадок в объяснении не нуждаются. Чем глубже эти науки погружались в динамику жизни, тем больше находили фактов в поддержку своего тезиса. Предохранительный зазор между бытием и ценностью, казалось, исчез. Ценности порождаются жизнью и неспособны судить жизнь с какой-то внешней точки зрения. Философия ценностей все меньше и меньше могла сопротивляться этой угрозе.