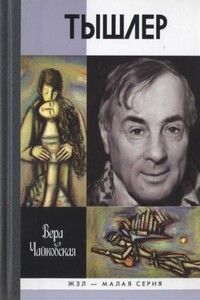Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 79
Отчего бы нет?! Вот же в Михайловском, закончив «Бориса Годунова», вывел в тетради: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
Но тут же припомнились друзья – в мешках на эшафоте. Рылеев, такой же брат по музам и по судьбам, как Кюхля! Он сам был бы на площади, окажись он в Петербурге! И об этом он сказал новому государю…
В лице Пушкина снова смесь выражений: мука, детское недоумение, бешенство. Уже столько было разных чувств на этом лице! Не было только вдохновения. А ведь им пропитана каждая пушкинская строчка!
Орест вдруг замечает, что они с Пушкиным страшно похожи. И не только тем, что оба невысокие, подвижные, курчавые. Орест посмазливее, но и постарше на целых семнадцать лет! Они оба, как ртуть, изменчивы, вспыльчивы, легко зажигаются, требуют невозможного. Оба искренни и простодушны, как дети.
(Сильвестр Щедрин в письме 1829 года передавал бурную манеру выражаться, свойственную Кипренскому: «Очень, очень прекрасно и очень, очень прескверно»[150].)
Оресту захотелось остановить в портрете эту бесконечную текучесть чувств и впечатлений, свойственную в жизни им обоим. Запечатлеть минуту подлинной высоты, тишины и ясности. Уловить зов «божественного глагола». Это будет словно бы их общий с Пушкиным портрет…
Пушкин посвятил портрету и его автору замечательное стихотворение с чеканной формулировкой в последней строфе:
Глава 15. Петербургские томления
С этих времен идут толки о его «частых приношениях Вакху». Об этом напишет сын Дмитрия Николаевича Шереметева Сергей, в те годы еще мальчик. Он запомнил, как художник любовался пузырьками в бокале шампанского, сравнивая их с «мирами»[151].
Как видим, это не одинокое «мрачное пьянство», а некое желание украсить жизнь, расцветить ее красками. Шампанское – веселое вино. Еще пушкинский Бомарше советовал отгонять черные мысли с помощью «шампанского бутылки». Чувствуется, что ему не хватает любви. В этот петербургский период он не напишет почти ни одного женского портрета маслом. В 1827 году возникнет «Бедная Лиза» – задумчивая юная девушка в простой одежде и с гвоздикой в руке, явленная в красках мечта об оставленной в Италии и грустящей в монастырском приюте Мариучче. Скромная луговая гвоздика перекликается с такой же гвоздикой в руке на давнем ее портрете. Это их общий «знак». Что ему карамзинская бедная Лиза, продававшая, как мы помним, ландыши? Он вздыхает о другой! Он живет воспоминаниями и мечтами. Ждет ли она его? Тоскует ли?