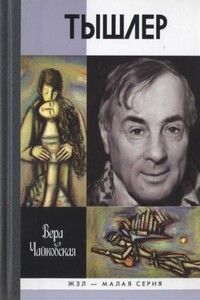Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 59
Герой изображен ночью, вероятно, при свете луны, что меняет тональность работы. Матовый свет ложится на рукав белой рубахи, на руку со склоненной на нее головой. Юноша мечтает, сжав в руке садовый нож с налипшими комьями земли.
«Природа, мир, тайник вселенной», как писал гораздо позже Пастернак.
В Твери, в одиночестве и заброшенности, Орест нарисовал когда-то лунный пейзаж. И вот в солнечной Италии он вернулся к лунному пейзажу, но еще более таинственному и космическому. Но даже и в «Садовнике» можно уловить волны скрытой чувственности, раздумья о связи Танатоса и Эроса, как гораздо позже обозначит эти противоположные пики человеческого притяжения Зигмунд Фрейд.
В последующих картинах эти стихийные чувственные начала будут выражены гораздо смелее. В России он завидовал Константину Батюшкову, который с такой бурной энергией воспел бег своего героя-двойника за вакханкой. И вот теперь сам Орест взялся за «анакреонтический» сюжет в «Анакреоновой гробнице». В его библиотеке, собранной в Италии, можно найти несколько сборников анакреонтической лирики – по-гречески и по-французски. Он ее изучал, ею проникался. В «Анакреоновой гробнице» художник изображает ночную пляску молоденькой вакханки и косматого Сатира у гроба «певца любви и веселья» Анакреона. Любовь при гробе – бродячий, архетипический мотив, который можно встретить в «Каменном госте» Пушкина. Этот же мотив в варианте «загробной» любви Пушкин будет разрабатывать в стихотворении «Заклинание» (1830). Там тоже ночь, луна и вызывание духа умершей возлюбленной, которой герой хочет признаться в неугасшем чувстве:
Интересно, что стихотворение, судя по всему, посвящено итальянке – Амалии Ризнич.
У Кипренского сильнее романтическая антитеза безудержного веселья жизни и ночного «вечного» сумрака смерти. И теперь в Италии ему достает внутренней энергии, раскованности, чувственного напора, чтобы изобразить сценку в «анакреонтическом» духе. Любопытно, что, когда он предложит эту картину Николаю I, он изменит имя буйного Анакреона на вполне традиционного Теокрита (Феокрита) – «Теокритова гробница», понимая, что сухому Николаю I «буйства» Анакреона едва ли придутся по душе.
Кипренский – романтик и в своих картинах обнажает душу. Ничего не может утаить! В холстах «итальянского» цикла появились те две женщины, которые во многом определили дальнейшую судьбу Кипренского – художника и человека. Юную вакханку в «Анакреоновой гробнице» он писал с молоденькой девочки – Анны-Марии Фалькуччи, которую он будет называть Марьючей (Мариуччей). Еще раньше он изобразит ее на картине «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке» (1819).