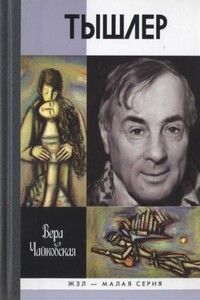Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 56
Невозможно не продолжить это упоительное повествование; пусть читатель меня простит. Впрочем, нам и теперь внове даже читать (не то что участвовать) о подобном веселье.
«18 февраля мы были на вечере у Ф. А. Бруни, у него был маскарад: мы очень приятно провели время, танцуя с хорошенькими итальянками. В антрактах были и характерные танцы. M-me Бруни (итальянская жена художника Ф. А. Бруни. – В. Ч.) с m-lle Чебато и еще с одной итальянкой и тремя итальянцами танцевали салтареллу под звуки мандолины, на которой играл Ф. А. Бруни. Потом Росси танцевал качучу, наконец я вместе с ним плясал русскую и удалую…»[108] Хоть Николай Рамазанов под конец станцевал «русскую» (и даже в русском костюме), все же можно сказать про него словечком Кипренского, что он «объиталианился».
Большинство русских пенсионеров разных «призывов» подхватывало в Италии, как и он, эту южную солнечную ноту карнавала, цветения, праздника.
Нужно добавить, что и Карл Брюллов, и Николай Рамазанов остро ощущали и какие-то иные мотивы и отзвуки Вечного города – смерти, тления, забвения, монашеской религиозной аскезы, – но хода им не давали.
Константин Батюшков, приехав в Рим несколько позже Кипренского, писал о нем парадоксально и зловеще: «Чудесный, единственный город в мире, он есть кладбище вселенной»[109]. Но Батюшкова ждало в Италии сумасшествие. А что же Кипренский?
Он прибыл в Рим 26 октября 1816 года. И на время как бы замер, осматривая и обдумывая свалившиеся на него впечатления. Мастерскую он снимает только в январе 1817 года. Оленину он пишет, что искал студию так долго, потому что в Риме очень много иностранцев: «…однако – я нашел несколько отдаленный дом от шуму, подле Капуцинского монастыря… Strada da S-t Isidoro № 18 (вот и адрес). Ничто здесь не отвлекает меня от работы, и я очень счастлив»[110]. Душевное состояние, как видим, противоположное батюшковскому.
Кого же он начинает писать? О нет, вовсе не итальянских женщин, поразивших сразу воображение молодого Карла Брюллова.
Это тянется с Женевы. Уже там, написав и нарисовав замечательную «импровизационную» серию мужчин Дювалей, он не изобразил ни одной женщины. А ведь там наверняка были тетушки, сестры и жены. Но нет, исключительно мужчины. Словно боится даже подступиться к этим незнакомым «европеянкам нежным».