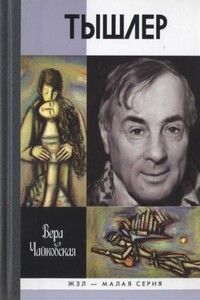Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 19
Все слишком конкретно-политическое романтическим сознанием затуманивалось, углублялось и поэтизировалось мифологическими ассоциациями, личностным подтекстом. В свой картон Кипренский включил фигуру крылатого существа, не то Эрота, не то ангела, которого он писал со своей Мариуччи. Тем самым он его «утеплял». Но к Мариучче мы еще неоднократно вернемся.
Поэтому мне представляется гораздо более обоснованной позиция Валерия Турчина, видевшего в письме Оленину приметы романтизма и свободы: «Его послание из Рима надолго запомнилось… Дух свободы, которым были окрылены переживания художника, запал людям тревожных десятилетий в душу»[35].
Запомнилось оно и Александру Пушкину, который в 1821 году был сослан Александром I на юг за «вольные» стихи. Он вспоминает о письме Кипренского в 1823 году, еще находясь в ссылке. Надо сказать, что в эпоху Николая I внутреннее стремление Кипренского к свободе будет только усиливаться. Но он уже не сможет его прямо выражать.
Такая же «размытость» наблюдается в его отношениях с враждующими литературными «станами». В Петербурге он дружественно относится и к архаистам, и к новаторам (если воспользоваться терминологией Юрия Тынянова). Он близок к Крылову и Гнедичу, но и к Жуковскому и Батюшкову. К «важным» членам «Беседы любителей российской словесности» и к «легкомысленным» поэтам, шутливо их осмеивающим в своем пародийном «Арзамасе».
Он смотрит глубже, у всех берет то, что ему нужно. И классическую гармонию архаистов, и импровизационную легкость новаторов-романтиков.
Он – разный, он изменчивый, он хочет удивлять и обновляться.
Характеристики в его портретах Василия Жуковского и Сергея Уварова (оба – члены «Арзамаса») будут зависеть от личных качеств моделей, а не от их литературных или политических пристрастий. В молодом Уварове, будущем реакционном министре просвещения, он безошибочно угадает желание «играть роль», «позировать», что поклонника «естественности» Кипренского не могло не отталкивать.
А чины? Может быть, он хотел продвинуться по карьерной лестнице? Но ведь уже в детстве этот мальчик, родившийся в семье крепостных, возомнил себя кем-то вроде подброшенного царского сына. Что может быть выше и слаще этого?
В 1831 году в возрасте сорока девяти лет он наконец «дослужится» до звания профессора исторической и портретной живописи 2-й степени, что соответствовало чину 7-го класса и давало личное дворянство Российской империи.
Но зачем личное дворянство человеку, который с царями общается «на равных»? Художник Александр Иванов после смерти Кипренского писал из Рима отцу: «Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать этого»