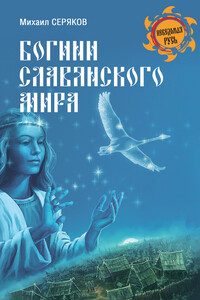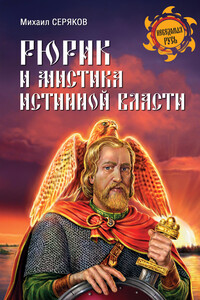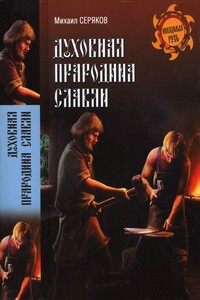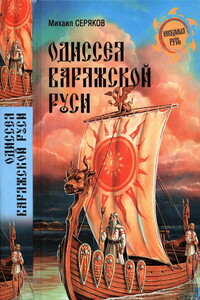. Понятно, что слова эти представляют обещание от имени бога щедро наделить царя сверхъестественной силой увеличивать изобилие внутри государства и побеждать его врагов вовне. Поскольку других прямых свидетельств о связи представителей династии Рюриковичей с гобино не встречается, то разрыв между ее основателем, жившим в IX в., и предпоследним ее представителем, жившим в XVI в., может показаться слишком большим, однако у нас есть свидетельства, доказывающие, что комплекс представлений, изложенных в надписи на царском месте Ивана Грозного, является достаточно древним и фиксируется на Руси за несколько веков до жизни этого царя. Уже древнерусский текст XIV в. относит обе эти функции к числу божьих даров: «Вся блгая строенья о(т) ба подаема бываютъ, миръ и гобина плодомъ, и врагамъ одолѣнье»
[161]. С другой стороны, про новгородского архиепископа Иону современники сообщали: «Бысть же при его святительствѣ миръ со всѣми землями и тишина и гобзованіе плодамъ»
[162]. В другом случае изобилие севера Руси рисуется как результат молитв этого деятеля церкви, именуемого в данном фрагменте святым: «И посемъ при животѣ святаго Ионы благоплодны земли былія, Новгородская и Псковская гобзовати всѣми овощами, молитвами святаго»
[163]. Как видим, в данном случае с изобилием-гобино оказывается связан глава не светской, а духовной власти, однако с учетом того, что изначально Рюриковичи совмещали в своем лице оба этих типа власти, в том числе и власти сакральной, это свидетельство опять-таки указывается на изначальный архетип тесно связанного с божественным прародителем носителя гобино. Что касается побед над врагами, то эта черта была, разумеется, присуща князьям, а не представителю духовенства, у которого она заменяется на мир со всеми землями и тишину.
Сопоставление этих представлений с данными о его сыне Игоре позволяет нам заключить, что данная сверхъестественная способность передавалась по наследству, а ее конкретным способом реализации и было «кружение» «по-солонь», или полюдье, во время которого великий князь не только собирал со своих подданных дань, но и, в свою очередь, одаривал их своей мистической благодатью, способствовавшей плодородию почвы и, возможно, самих людей. Данное обстоятельство хорошо объясняет весьма странное молчание христианских летописей о родоначальнике правившей многие века на Руси династии, равно как и о том, что летописцы, за единственным исключением, хранили точно такое же молчание о таком важном государственном институте, как полюдье. В этой связи стоит отметить, что ближайшие к его эпохе отечественные церковные писатели Иларион и Иаков Мних, прославляя крестителя Руси, вообще не упоминают Рюрика среди предков Владимира, ведя отсчет от Игоря Старого. Само имя основателя княжеской династии появляется лишь у более позднего автора «Повести временных лет», да и тот лишь ограничивается Сказанием о призвании варягов да указанием на то, что сыном Рюрика был Игорь, не сообщая больше ничего об интересующей нас фигуре.