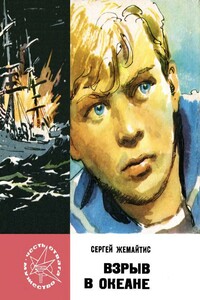Абстрактный человек | страница 45
После этого он почему-то представил свой дачный дом, большой старый участок с узловатыми яблонями, жасмином и сиренью. Представил людей, которые заполняли до него все дачные комнаты. И он сказал сам для себя неожиданно:
— Вы знаете, мне смерть никогда покоя не давала, я всегда ее чувствовал, странно, да? В самом даже маленьком возрасте я уже ощущал, что вот-вот могу умереть, особенно когда болел, и весь мир передо мной как бы заколыхался. Вот тогда это ощущение во мне окончательно и сформировалось, и удивительно — оно никогда на меня не давило, только грустно немного было, но грусть эта — совсем не тоска какая-нибудь была, да и страха-то никакого не было, просто печаль по всему вашему сознанию переливается, то там выскочит, когда листочек зеленый смотришь, то там — когда, к примеру, идешь один или вдвоем, — он посмотрел на Екатерину Ивановну, — вот так, как мы с вами. Выскочит она, эта мысль, и не отвяжется, подумать о ней надо, так, слегка, не очень даже тревожно, иногда сладко даже подумать о смерти, особенно когда кругом тепло, хорошо, когда ты здоров и живешь на теплой даче. Я правду вам скажу — люблю иногда подумать, представить, как это все бывает с другими и как со мной будет. Но почему-то всегда кажется, что со мной этого не будет, или же, если и случится, то как-то совершенно не страшно, спокойно и естественно, так, как будто ты рождаешься, а не умираешь.
Екатерина Ивановна слушала Владимира Глебовича, и ей казалось, что рассказывает он все это с каким-то тайным, одному ему ведомым умыслом, хотя на самом деле это было не так, и сам Майков не мог предположить, зачем он рассказывал этой женщине свои тайные чувства. Просто с ней он ощущал себя свободным, и что-то, долго ни перед кем не раскрываемое, по-видимому, разматывается в нем, раскручивается, словно кто-то нажал на какую-то управляющую им кнопку, и он послушался этого нажатия и подчинился ему. Его, так же как и его спутницу, начинало закручивать куда-то, в какую-то новую жизнь, он ощущал прикосновение этой новой жизни и не сдерживал себя в своем рассказе.
— Вот мы о смерти заговорили, — сказал он вдруг. — А мне однажды один человек говорил одну любопытнейшую вещь о ней, о смерти.
Вот о чем он говорил. Когда от человека мало что остается, ну, скажем, самая малость, иначе — наполовину он уже как бы и мертв и уже не сопротивляется почти, а только вертится в чьих-то сильных невидимых объятиях, вот тогда-то в нем в один из самых последних моментов наступает как бы покой, сильнейший и тишайший. Покой и озарение, весь мир предстает в ясности необычайной; весь, в малейших прекрасных своих деталях. И ощущения налетают особенной остроты, будто ты в весь этот живой мир, во все это проникать начинаешь, но не снаружи, а откуда-то изнутри, извне, будто у человека начинаются корни, которые во все-все живое устремляются и стягивают его с этим живым воедино и со всеми лесами, — Майков пугливо посмотрел кругом, — и с живыми существами. Это как удар, как вспышка, как свет. И вот именно в этот момент человек и становится как бы самим собой. Все лишнее с него слетает. Он весь наружу вылазит, он как бы рождается из своего тела вторично. И все это как-то вполне естественно происходит, то есть материалистически. Грустно от того, что все кругом разделено, — неожиданно закончил он. — Так ужасно несправедливо разделено.