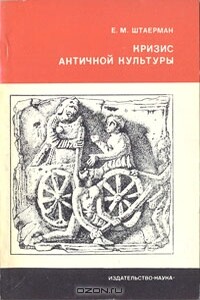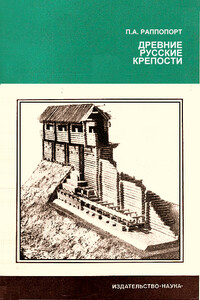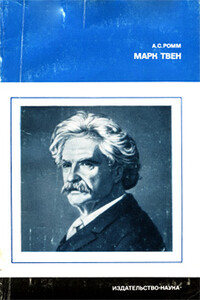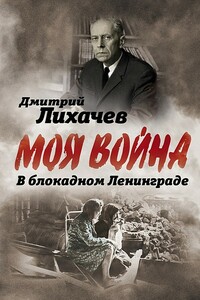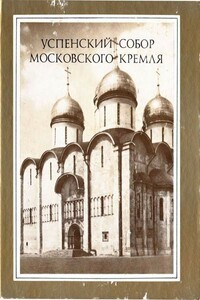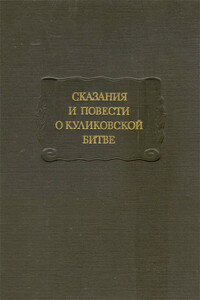"Смеховой мир" Древней Руси | страница 77
Итак, юродивый кодирует речь особым образом. Однако юродивых множество. Не мог же каждый из 36 канонизированных подвижников создавать индивидуальный язык: тогда он превратился бы в заумь, понятную только оратору. Код должен сравнительно легко поддаваться расшифровке, иначе порвутся нити, связующие лицедея и зрителя. Следовательно, юродивым необходим корпоративный код. Судя по житиям, так оно и было. При всех индивидуальных отличиях в языке юродивых явственно проглядывает общее ядро. Между тем до раскола юродивые, если верить источникам, друг с другом общаются мало. Иногда они даже враждуют. Каждый из них ведет себя так, будто он человек вне подражания, единственный в своем роде. Если это корпорация, то корпорация одиночек.
При всем том момент подражания и наследования со счета сбрасывать нельзя. Агиография недвусмысленно на это указывает: Андрей Цареградский «ристати же оттоле нача и играти по улицам, по образу древле бывшю похабу Семеона онаго дивного».[127] До того как возложить на себя вериги этого труднейшего подвига, люди «учатся юродству». Они читают жития предшественников — в частности, житие того же Андрея, которое в Древней Руси воспринималось как своеобразная энциклопедия юродства. Доверие и интерес к Андрею усиливал тот факт, что на Руси его считали славянином (см., например, Пролог под 2 октября). Так Андрей назван в русских версиях жития, хотя греческие тексты именуют его скифом.
Чем позже жил юродивый, тем длиннее перечень его предшественников. Максим Московский (середина XV в.) «ревновал блаженным Андрею и Симеону Уродивым… и святому Прокопию Устюжскому».[128] Часто этот перечень заканчивается последним по времени, ближайшим юродивым. Так, Прокопий Вятский, который, по данным жития, появился в Хлынове в 1577–1578 гг., «подражал древних блаженных мужей Андрея глаголю Цареградского, Прокопия Устюжскаго и Василия Московскаго».[129]
Кроме того, люди наблюдают юродивых. Прокопий Устюжский, будучи еще купцом «от западных стран, от латинска языка, от немецкия земли», каждый год, нагрузив свой корабль товарами, приезжал торговать в Новгород. Здесь он решил остаться: его поразила красота православия. «И виде в Великом Новеграде… премногое церковное украшение, и поклонение святым иконам, и звон велий, и слышит святое пение и чтение святых книг, и множество монастырей около Новаграда сограждено, и мнишеским чином велми украшено».