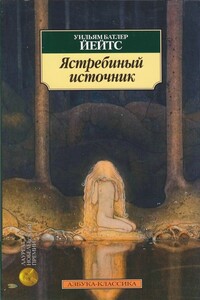Кельтские сумерки | страница 16
Когда история дошла до этой точки, старикова дочь сказала насмешливо: «Сдается мне, ты совет-то Бирну дал куда как дельный, а, отец?» Но старик продолжал настаивать, что он и впрямь желал Бирну одного только добра; и рассказал еще, как, получивши письмо с извещением об их помолвке, отписал Бирну тот же самый совет. Шли годы, а писем больше не было; и, хоть он был теперь женат, она все не шла у него из головы. В конце концов он собрался и поехал в Америку, но сколько он ни наводил там справок, все было без толку. Прошло еще немало лет, жена умерла, он был уже в годах, богатый фермер с целой кучей хлопот по хозяйству. И всё ж таки он отыскал ничтожный какой-то предлог, чтобы съездить еще раз в Америку и снова попытаться найти ее. В один прекрасный день он разговорился, там уже, в железнодорожном вагоне с каким-то ирландцем и принялся, по обыкновению своему, выспрашивать его об эмигрантах из разных знакомых ему мест; в конце концов он спросил: «А о дочке мельника из Иннис-Рат ты когда-нибудь слышал?» — и назвал имя женщины, которую искал. «Да, конечно, — тут же откликнулся его собеседник, — она вышла замуж за моего друга, за Джона Мак-Ивинга. А живет она в Чикаго, на такой-то улице». Доран отправился в Чикаго и постучал в указанную дверь. Она открыла дверь сама, и «ничуточки не переменилась». Он назвал ей настоящее свое имя — он снова взял его после смерти деда — и имя человека, с которым познакомился в поезде. Она его не узнала, но пригласила остаться к обеду, сказав, что муж ее будет рад любому, кто знаком со старым его другом. Они о многом успели поговорить, но за весь тот вечер, я не знаю почему, да и сам он, думаю, не смог бы сказать почему, он ни разу не сказал ей, кто он такой. За обедом он спросил ее о Бирне; она уронила голову на руки и принялась плакать, и плакала так долго и горько, что он испугался даже, как бы муж ее не рассердился всерьез. Он так и не отважился спросить, что же случилось с Бирном, и вскоре ушел, чтобы никогда больше с ней не встречаться.
Когда старик закончил свой рассказ, он сказал: «Передайте все это мистеру Йейтсу, может, он напишет о нас обо всех стихи». На что его дочь откликнулась тут же: «Ну нет, отец. О подобной женщине никто стихов писать не станет». И вот какая жалость! Я и в самом деле не написал стихов; быть может, потому, что на сердце мое — а оно, сколько ни помню себя, всегда любило без памяти Елену и прочих всех хорошеньких, но непостоянных женщин — легла бы слишком уж тяжкая ноша. Есть вещи, которых лучше долго в себе не носить, вещи, для которых лучше простых, голых слов оправы и не придумаешь.