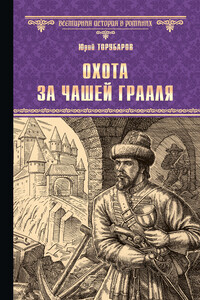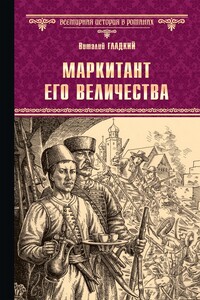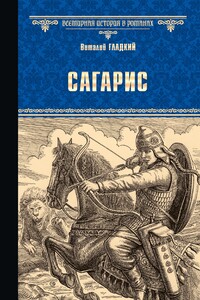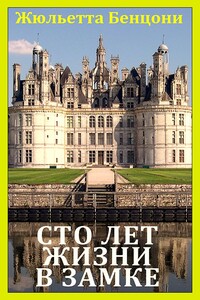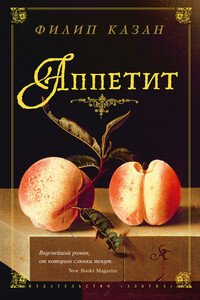Азов. За други своя | страница 32
Космята приобнял супругу:
— Драться, что делать? Так драться, как никогда, может, и не дрались.
— Ой. — Красава выпрямилась. — С утра пойду в храм, помолюсь Николе — заступнику казачьему.
— Помолись, — устало вздохнул Валуй. — Нам теперь всем надо молиться, потому как всяко-разно без Божьей помощи супостата не одолеть.
— Наливай борща брату. А то он, поди, с голодухи уже помирает. — Космята оглянулся на жену строгим взглядом.
— Что это я? — сразу же засуетилась она. — Идём, я тебе пока на руки полью. А то и правда, когда там вода согреется.
Пока Валуй ел, Космята поглядывал на друга с интересом, словно собирался о чем-то спросить, да не решался.
Наконец Валуй отложил облизанную ложку, и Степанков не утерпел:
— Никак присказку деда Черкашенина решил перенять?
Валуй задумчиво покосился на друга. Он и сам не знал, что это ему взбрело в голову вторить за дедом его "всяко-разно". Почему-то показалось, что так, с черкашенинской приговоркой, важности себе прибавит, возраста. А то что такое двадцать одно лето? Некоторые казаки в подчинении раза в два старше будут, а то и того поболее:
— А кабы и решил, то чё?
— Да не, ничё. Перенимай, ежли хотенье такое есть, всяко-разно, — прищурился с ехидцей Космята.
Старший Лукин сделал вид, что не заметил:
— Ну вот и славно. Пойду я, пожалуй.
Сестрёнка, подхватив со стола тарелку, на мгновение прижалась к брату:
— Заходь ишшо.
— Да куда я денусь.
Пять лет назад
Ещё туман не садился на кусты, а шестнадцатилетние не по возрасту крепкие братья-близнецы Лукины собрались на рыбалку. Сторожко, чтобы не разбудить родителей, спавших в другой половине куреня[9], и младшого брата Василька с сестрой Красавой, расположившихся на соседних лавках, выбрались на улицу.
Светало. На востоке небо окрасилось в светлые тона, по самому краю, словно окаймленные кровавой полоской. Лукины замерли у дверей, прислушиваясь: никого не разбудили? Поеживаясь, коротко оглядели округу. Низенький плетень, с нанизанными на колья старенькими кувшинами, узенькая тропка, уводящая со двора, замершие в сумраке угадывающиеся соседские курени под камышовыми крышами. Вроде тихо. Густо пахло прелыми листьями и рыбной требухой. Давеча родичи натрудись, допоздна пластая рыбу и густо посыпая её солью на зиму. Как и весь десятидворный юрт в эти погожие осенние деньки. Парням не хотелось поднимать своих ни свет ни заря, ещё успеют рубахи потом пропитаться. И только так подумали, как дверь чуть скрипнула, и в образовавшуюся щель скользнула Красава в длинной, до пят, рубахе. Набросив на голые плечи платок, она окинула замерших братьев заботливым взглядом: