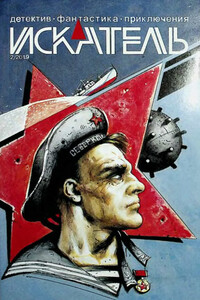Дик | страница 39
— Ты не темни, — сказал я. — В чем дело?
Кулаков почесал в затылке.
— Да, кажись, нашла кость на кость. Пират с Боксиком, сам знаешь, воли никому не дают, а Дик на них ноль внимания. А тут еще этот карла, Маленький, воду мутит, так и старается всех стравить. В общем глаз да глаз нужен.
— Не привыкнет Дик, — сказал я. — Может, забрать мне его, а?
— Не привыкнет? Да в том-то и дело, что ему не надо и привыкать. Он не успел и прийти, как свои порядки наводить начал. С характером пес. Посмотрю, какой в нарте будет. Если не лентяй, вожаком сделаю.
Сам того не зная, Кулаков лил мне масло на душу. Дик — вожак! Это тебе не просто упряжная собака. Вожаков берегут все. Их не бьют даже самые отпетые драчуны из каюров. Вожаку почет и уважение, и если случится, что Дик попадет от Кулакова к кому другому, то и там может надеяться на сносную жизнь.
Новость сильно приободрила меня. Я опасался, что на новом месте Дик будет чувствовать себя не в своей тарелке, чего доброго, захандрит и захиреет, а оказывается, все повернулось наоборот, и дело теперь заключается лишь в том, как Дик проявит себя в работе. На этот счет у меня не было никаких сомнений — Дик не мог оказаться лентяем. У него темперамента хватит на троих, а такие никогда не бывают лентяями. Лишь бы Кулаков не держал его долго в учениках.
Но это Кулаков понимал лучше меня, и уже на вторую неделю я увидел Дика в упряжке. Для начала Кулаков поставил его коренником, и я знал почему. Коренник всегда под рукой у каюра, его старание или нежелание тянуть как следует лямку на виду, и можно в любой момент, не вставая с нарт, поощрить его или, наоборот, подхлестнуть. Поэтому в тот день я с нетерпением дожидался Кулакова, чтобы спросить, оправдывает Дик его надежды или нет.
— Во пес! Артельный, — ответил Кулаков, когда мы наконец-то свиделись.
Лучшей похвалы для ездовой собаки и не требуется. Артельная — значит, чувствующая общий настрой, не щадящая себя в работе, готовая умереть в лямке. И это не громкие слова. Как и охотничьи собаки, которые до гроба верны своей главной страсти — охоте, ездовые псы так же преданны своему тяжелейшему труду. Стоит надеть на них алык, как они преображаются, и уже нет ни равнодушных, ни ленивых — все охвачены азартом и рабочей злостью. Выдернут ломик, удерживающий нарты, — и упряжка вихрем срывается с места. В струнку натянуты алыки, низко пригнуты головы, вверх-вниз, как поршни машин, ходят собачьи лопатки. Штурмом, с воем и лаем, берутся тягуны — длинные, пологие подъемы, и только ветер в лицо, запах разгоряченных собачьих тел в ноздри да скрип полозьев. И этот стремительный бег среди заснеженных, угрюмых сопок, когда лишь успевай подправлять ломиком нарты на поворотах, роднит тебя с собаками, с их первобытным упоением к безлюдью и простору; и ты уже не ты, а кто-то другой, словно выхваченный из прошлого и одетый в звериные шкуры; и этот «кто-то», не слыша себя, кричит в диком торжестве, подбадривая несущуюся сломя голову упряжку.