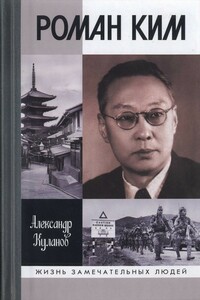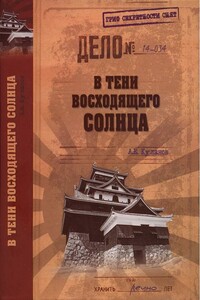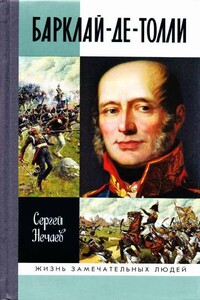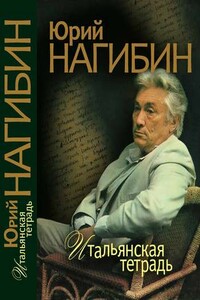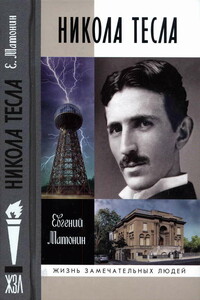Елена Феррари | страница 66
Владимир Воля, выпущенный из ЧК после двадцатидневного ареста[101], из военной академии был отчислен и в январе 1920 года отправился обратно: на юг, на фронт, на Украину. Неясно, вместе с ним ли, но, во всяком случае, одновременно — 27 января туда же отправилась и Ольга Голубовская. Добираться ей пришлось около месяца, и на всем протяжении пути за ней вслед неслись (если так можно сказать, учитывая темпы передвижения в 1920 году) письма от влюбленного слушателя военной академии. Но, прежде чем лечь в сумку почтальона, эти послания ложились на стол Натальи Рославец, а затем их копии аккуратно подшивались к делу Георгия Голубовского. Всего таких копий в деле накопилось немало: шесть листов формата А4 — с оборотами, исписанными аккуратным бисерным почерком[102]. Некоторые — короткие записки практически без содержания, лишь бесконечные нежности да интимные признания, некоторые — обстоятельные отчеты о выполнении Люсиных поручений по передаче Жоржу посылок в тюрьму и ходатайств о его освобождении в ЧК. Записки Рославлева самому Голубовскому и ответы того из тюрьмы копировались точно так же и подшивались туда же. Вся эта эпистолярная круговерть любовно-тюремного треугольника целиком была известна только чекистам и ими же контролировалась.
Первое письмо было написано Рославлевым на следующий день после отъезда Люси и, судя по проставленному на нем времени, закончено ровно в час пополудни:
«Смотрю на карту и высчитываю, что сейчас Лучик у Тулы приблизительно. Сижу дома и вспоминаю. Как я признателен Жабе за ее определение моего отношения к Вам, когда мы были в вагоне!»
Кто такая «Жаба» и о каком вагоне идет речь, осталось невыясненным, но и Рославлев к ней больше не возвращался, посетовав лишь, что не может называть Георгия Голубовского Жоржем, ибо это имя вправе произносить только жена заключенного. И вообще, ничто и никто, кроме любимой Люси, не занимает мысли Рославлева надолго. Да и она — только в известном понимании:
«Лучик мой,
так хочется ощущать прикосновение Вашей груди к моей… Хочется вслушаться в биение Вашего сердца… Люсинька, друг мой ясноокий… Смотрю на диванчик, мой с Вами диванчик, воображаю Вас в сиянии Вашей юности, но кто-то суровый и грустный выглядывает из-за Вашего бледно-белого плечика. Дорогой, голубиный… Лучик мой, увы, все же мой не целиком!»