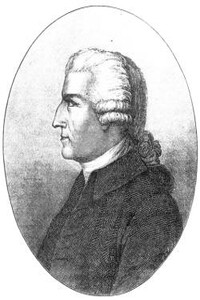Дѣла минувшихъ дней. Записки русскаго еврея. В двух томах. Том 1 | страница 50
Понятно, что споръ о классицизмѣ былъ споромъ отвлеченнымъ, чисто принципіальнымъ, не имѣвшимъ практическаго значенія. Обсужденіе принципіальной стороны дѣла оставляло въ тѣни практическіе вопросы о томъ, какъ фактически проводится въ жизнь классицизмъ въ нашей школѣ. Подъ шумъ этого спора выполненіе введенной въ жизнь классической программы было ниже всякой критики. Формальный классицизмъ не имѣлъ духа, и, вмѣсто дѣйствительнаго классическаго образованія, школа давала мертвящія умъ молодыхъ людей грамматическія правила, приводила къ безсвязному зазубриванію текстовъ латинскихъ и греческихъ писателей, къ нелѣпымъ «экстемпораліямъ» — упражненіямъ въ переводѣ съ русскаго языка на латинскій и греческій. Самые же классическіе авторы, не исключая и Гомера, оставались чуждыми по духу даже лучшимъ школьникамъ, знавшимъ всѣ тонкости синтаксическихъ правилъ. Въ результатѣ, Россія осталась и безъ реальнаго, и безъ классическаго образованія.
Полтавская гимназія не представляла въ этомъ отношеніи исключенія. Съ уходомъ Чарторыйскаго, въ преподавательскомъ составѣ ея не было ни одной замѣтной фигуры. Болѣе или менѣе сносно обстояло преподаваніе математики; скромнымъ педагогическимъ требованіямъ соотвѣтствовалъ одинъ только учитель русскаго языка и словесности. Преподаваніе же древнихъ языковъ, при всей строгости требованія со стороны учителей, было крайне первобытно. Отношенія между учителями и учениками ограничивались только служебными классными сношеніями. Среди учителей не было никого, кто могъ бы вліять на молодежь въ смыслѣ возбужденія самодѣятельности и самообразованія.
Вскорѣ послѣ поступленія моего въ гимназію, директоръ Шульженко былъ смѣщенъ, и на его мѣсто назначенъ былъ старикъ С. И. Шафрановъ, на котораго, повидимому, высшее учебное начальство возлагало надежды, что онъ «подтянетъ» гимназію, имѣвшую, какъ я уже упомянулъ, репутацію распущенной, зараженной вольнымъ духомъ. Шафрановъ, до назначенія на должность директора полтавской гимназіи, былъ директоромъ Коллегіи Галагана въ Кіевѣ, т. е. служилъ подъ непосредственнымъ надзоромъ попечителя кіевскаго округа и могъ быть въ достаточной мѣрѣ посвященъ въ виды правительства. Онъ преподавалъ въ шестомъ классѣ, когда я тамъ учился, русскую словесность. Личность Шафранова представлялась, во всякомъ случаѣ, незаурядной. При отсутствіи какого бы то ни было общенія внѣ школы съ учениками, послѣднимъ трудно было оцѣнить индивидуальность этого интереснаго старика и понять его міросозерцаніе. Онъ не былъ строгъ по натурѣ, любилъ молодежь, маленькихъ даже ласкалъ, но намъ было извѣстно, что онъ былъ крайне взыскателенъ въ отношеніи преподавательскаго персонала. Мы питали къ нему большое уваженіе, съ нѣкоторой долей страха, происходившаго отъ непониманія. Какъ преподаватель, онъ намъ казался чудакомъ. Съ нимъ мы не «проходили» словесности по учебнику, онъ намъ не «задавалъ» вытвердить опредѣленное количество страницъ изъ древнихъ церковно-славянскихъ памятниковъ. Но въ теченіе цѣлаго года его преподаванія въ шестомъ классѣ онъ заставлялъ насъ заучивать наизусть мало извѣстныя русскія былины, сказки и, въ особенности, сотни затѣйливыхъ пословицъ, поговорокъ и присказокъ. Горе было ученику, который, на вопросъ директора, какія пословицы русскій народъ посвятилъ, напримѣръ, морю, не умѣлъ отвѣтить соотвѣтствующимъ рядомъ поговорокъ, вродѣ «кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не маливался». Шафрановъ, очевидно, считалъ, что знаніе былинъ, сказокъ и пословицъ можетъ удовлетворить всю потребность развитія молодыхъ людей и внушить имъ надлежащіе литературные вкусы. Темы, которыя задавались для сочиненій, также не выходили изъ круга народной поэзіи и мудрости. Мы удивлялись, что самъ директоръ не держится офиціальной программы курса, и въ 7־й классъ мы перешли безъ знанія исторіи русской литературы. Директоръ Шафрановъ, однако, былъ несомнѣнно разносторонне образованный человѣкъ. Онъ прекрасно, безъ акцента владѣлъ французской и особенно нѣмецкою рѣчью и былъ знатокомъ иностранной литературы. О литературныхъ трудахъ самого Шафранова намъ не было извѣстно. Отдавая себѣ впослѣдствіи отчетъ о личности Шафранова, я понялъ, что въ его лицѣ мы имѣли одного изъ представителей усилившагося незадолго до того времени, къ которому относится мое пребываніе въ гимназіи, теченія славянофильства. Онъ былъ типичный самобытникъ, одинъ изъ тѣхъ, которые, начиная съ Аксакова, а потомъ вмѣстѣ съ Катковымъ, «публицистомъ Тверского бульвара», редакторомъ «Московскихъ Вѣдомостей», — группировались вокругъ знамени «Назадъ, домой!» и объявили ожесточенную войну западникамъ.