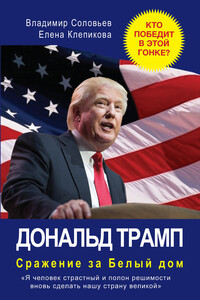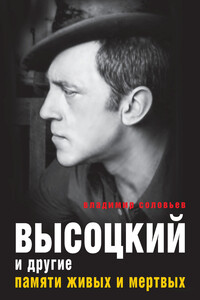Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский | страница 67
Как ни соблазнительна - ввиду блестящего исполнения - лингвистическая теория, позволю себе усомниться, что литература - это только борьба языка с самим собой. Тем более сам И.Б. думает и другое и пишет, в частности, что хотя Достоевский был неутомимым защитником Добра, не было, если вдуматься, и у Зла адвоката более изощренного. Тема Зла, а точнее сюжет Зла - не менее настойчивый (чтобы не сказать, навязчивый) в прозе - и в поэзии - И.Б., чем лингвистический. Но если последний, зарождаясь в русском языке, размыкается интернационально (скажем, аналогия "Цветаева-Оден"), то сюжет Зла кажется И.Б. навсегда застрявшим в покинутой им стране, а потому нетранспортабельным, непереводимым. Вот его ламентации на неистребимость русского опыта и на его "несовместность" с западной реальностью:
"Мое впечатление, по крайней мере, таково, что любой исходящий из России опыт, даже когда он схвачен с фотографической буквальностью, попросту отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности даже царапины. Конечно, память одной цивилизации не может и, наверно, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в силах восстановить отрицательные реалии чужой культуры, возникает худшая из тавтологий.
Что говорить, история обречена на самоповтор: выбор у нее, увы, как и у человека, не больно велик. Но тогда хорошо бы хоть отдавать отчет, жертвой чего ты становишься, имея дело с экзотической семантикой, которая преобладает в таких отдаленных сферах, как Россия. Иначе попадаешь в капкан собственных концептуальных и аналитических навыков... Слова эти, сами по себе - свидетельство, что я далек от того, чтобы обвинять английский язык в неэффективности; как не оплакиваю я и погруженные в сон души тех, для кого этот язык является родным. О чем я единственно сожалею, так о том, что такой продвинутой идее Зла, каковая имеется у русских, воспрещен вход в любое другое сознание по причине конвульсивного русского синтаксиса. Многие ли из нас могут припомнить Зло, которое так запросто, прямо с порога: обратилось бы: 'А вот и я - Зло. Ну, как дела?'"
К этому сюжету - разветвленной, конвульсивной, инквизиционной природе Зла в одних культурах и его непереводимости (по крайней мере, во всех извивах и сцеплениях) в другие культуры и языки - И.Б. возвращается в своем "византиуме", лучшей из написанной им прозы. Отметив
все достоинства Западной (Римской) цивилизации в сравнении и по контрасту с Восточной (Византийской, точнее - исламизированной Византией), И.Б. указывает заодно и на упущение Запада: "Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле... Разведясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравняло Восток к несуществующему и этим сильно занизило свои представления о человеческом негативном потенциале... Непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из оного представлениями о мире, законе, порядке, норме и т.п. заключается именно в том, что ради собственного торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией".