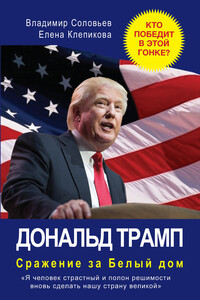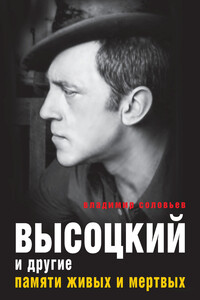Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский | страница 26
все те же уродцы и упыри Босха, которых, не исключено, le faiseur de diables, творец чертовщины увидел в белой горячке. Модный когда-то Чезаре Ломброзо, тот и вовсе был уверен, что "между помешанным во время припадка и гениальным человеком, обдумывающим и создающим свое произведение, существует полнейшее сходство."
Так или не так - не знаю, не будучи ни тем, ни другим, но монструозные создания Шемякина, будь то ангелы смерти, либо его крысо-люди либо его бестиарий в иллюстрациях к "Зверям Св. Антония" Дмитрия Бобышева, художественно настолько убедительны, что начинаешь верить в их реальность, независимо от собственного личного опыта, который у зрителя, конечно же, несколько иной, чем у художника. Однако художественный опыт - все-таки общий, при неизбежных разночтениях. Тот же круг чтения, например - Гофман, Гоголь, Сологуб, Кафка, Майринк, Булгаков и прочие faiseures de diables. Взять те же носы-гиперболы у Шемякина - они, конечно же, связаны с гоголевской традицией, хотя легко догадаться, что сбежавший нос коллежского асессора Ковалева всего лишь эвфемизм (как и отрубленный палец отца Сергия либо срезанные Далилой власы Самсона). На одной своей выставке Шемякин повесил венецейскую маску, у которой нос свисает аж до земли - в качестве художественной предтечи. Здесь и гадать нечего, чьим эквивалентом служит длиннющий этот нос, да простит мне читатель двусмысленные аналогии. Общее место после Бахтина: карнавальный юмор кружит обычно ниже пояса. Упомяну заодно, что лично я попал на эту выставку как Чацкий с корабля на бал, прилетев только что из Аляски, где навидался масок и тотемов, разгадка которых не в окрестной натуре, но в индейских мифологемах.
Гротескная ублюдочность мутантов Шемякина - это метафора исключительно эмпирического, субъективного, произвольного, издерганного сознания, но объективность в художественном мире - не более, чем иллюзия, мнимая величина. Разве объективны Брейгель, Босх, Гоголь, Кафка или Шагал? Да и так ли уж объективны, как кажутся, объективисты? Уверен, что Толстой тенденциозен не менее Достоевского.
Коли уж помянул совместную книжку Шемякина и Бобышева про бестиарий Св. Антония (1989), задержусь на ней чуть дольше. Кстати, самое известное воплощение этого сюжета опять-таки у Босха - его триптих "Искушение Св. Антония" в лиссабонском музее. Как и во всех других случаях (рисунки к "Русалке", "Носу", "Преступлению и наказанию", стихам Владимира Высоцкого и Михаила Юппа, рассказам Юрия Мамлеева), эти иллюстрации Шемякина не иллюстративны, то есть не буквальны - по крайней мере в лучших образцах. Автор и иллюстратор не повторяют друг друга - скорее дополняют, их трактовки не обязательно совпадают, но часто - полемичны. Если Бобышев своим стихом озверяет человека, то Шемякин, наоборот, очеловечивает зверя, и его пантера, единорог или бабочка антропоморфичны. Если он и обращает внимание на отличие человека от зверя, то сравнение, увы, оказывается не в пользу человека: