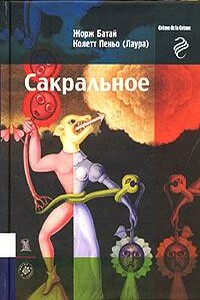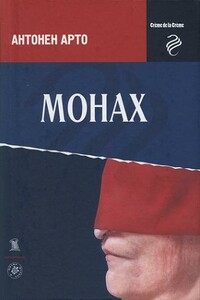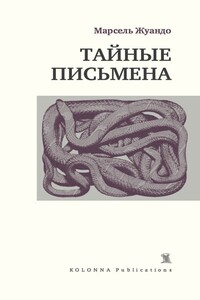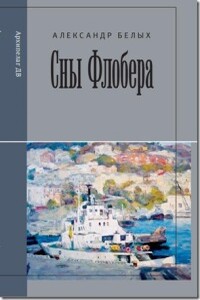Похвала сладострастию | страница 22
Наслаждение и страсть не стоит воспринимать как распущенность или слабость — но как возможность преодолеть сверхчеловеческие опасности и остаться невредимым, совершить самые невероятные поступки, показать лучшее, на что способен — и всё это с высоко поднятой головой. Только с такого угла зрения нашим взорам предстанет Олимп, и мы, вкусив амброзии, навсегда останемся неуязвимыми.
Никогда не говори, подобно другим: «это хорошо» или «это плохо» — но только «это сделано хорошо» или «это сделано плохо». Постыдное или благородное существует лишь в трактовке, которую ему придают. Все то, что на данный момент объявляется низким или, напротив, превозносится, не имеет ничего общего с нынешней моралью. Из наших поступков мы всегда выделяем самый важный, независимо от его сути. Древние греки хорошо это знали.
Разделяя все поступки на «чистые и нечистые» с той же безосновательностью, с какой древние иудеи разделяли животных, — христианство всё испортило.
Если «добродетель» — синоним силы, то «порок» — не обязательно синоним слабости. По этому поводу я люблю вспоминать старого архиепископа из Шаменадура[5], который говорил, улыбаясь: «Мой викарий отпускает только те грехи, которые ему нравятся».
В моих отношениях с молодыми людьми столько же коварства, сколько нежности. Это жестокие игры, в которых я выпускаю когти в самый неожиданный момент — когда они думают, что изрядно меня потрепали, я призываю их не быть такими вялыми.
Мы не выбираем своих склонностей. Одни скрывают их или осуждают, и полагают себя освободившимися от них, оправданными.
Другие переносят их, преобразуют, сублимируют — но не является ли ореол возвышенного, окружающий эти свойства в воображении их обладателя, всего лишь обманом, отвлекающим маневром, а не истинным очищением? Все зависит от искренности, от спонтанности этой импровизированной мифологии, будь она изобретенной самостоятельно или заимствованной.
Сначала воспринимаешь свои пороки как нечто любопытное; затем, переходя в разряд опасных, они порождают трагедии. После чего превращаются в привычки и больше не трогают.
Чаще всего наша ценность измеряется именно нашими неблаговидными поступками, нашими ошибками. Если бы не они, мы бы ничем не отличались от заурядных персонажей, сидящих за нашим столом — абсолютно цельных, лишенных всякой драматичности. Что до меня, то самое главное во мне выходит за пределы моей личности — ужас или восторг сквозят в каждом моем слове, в каждом движении. Смерть и грех непрестанно оспаривают меня друг у друга: одна берет верх в обычной обстановке, другой — в интимной; и воздействие обоих тем ощутимее, чем более они хрупки и уязвимы. Насколько меньше смятения вызывало бы мое присутствие, не будь этого неуклонного движения к гибели, которое можно угадать либо по дрожи в моем голосе, либо по внезапной вспышке во взгляде.