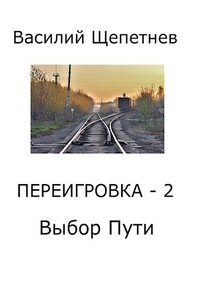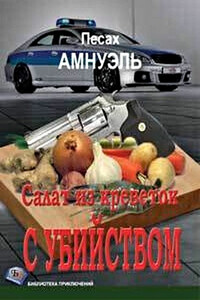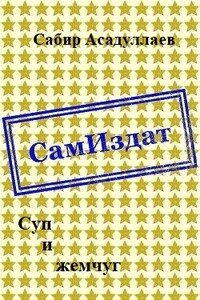В ожидании Красной Армии | страница 24
— По-печатному читать могут. Немного. А что?
— Домой иди, вот что.
Он послушался. Я проводил его до калитки. Темно и холодно. Я слышал, как бредет Филипп к своему дому, плеск воды это он ступил в лужу, несколько минут было совсем тихо, пока не стукнула вдалеке дверь. Дошел, стало быть. Бедная кукла.
Я еще постоял. Живая деревенская тишина: то вздохнет глубоко в печальном сне корова, то звякнет цепь ворота колодца. Поддаваясь тишине, и я не пошел, а прокрался назад. Глупо и смешно — клады в подземельях. Искать сокровища — дело, безусловно, ребячье. Искать. Но не находить.
Меня встретил запах горелого металла. Задержись я еще на пару мыслей, и прощай, чайничек.
Окно запотело; я пальцем вывел красивую букву «М», и она заплакала, роняя слезы на раму. Метро, значит. Без турникетов, лестниц-чудесниц, без гурий голубой униформы, но зато с тяжелым дубовым сундуком, доверху набитым колымским златом. Или лужами царских десяток, в которых плавает старый селезень мирового капитала в синем сюртуке и с цилиндром на плешивой голове.
Спать пора!
Внутри, под крышей, тишина была тревожнее. В углу стоял топор, тихий и смирный. Его не тронь, и он не тронет. Очень холодное оружие.
Уголь трещал в печи, а казалось — дверь отжимают, или тать в окно лезет. Дай волю фантазии — всю ночь можно под кровать заглядывать.
Но фантазии или не фантазии, а, похоже, я опять становился кому-то нужным.
Жаль.
Так, жалея себя и весь остальной мир, я продремал ночь у угасающей печи под шуршание ветра, редкие выстрелы угля и кряхтение старого больного дома.
Птицы летели над рощей, громко и разобиженно крича всякая свое, а вместе выходило — разор! Юлиан знал эту рощу, заброшенную, беспризорную, где деревья, стоящие хоть чего-нибудь, вырублены были давно, а оставшиеся росли дико, тесно, годно лишь для птиц и мелкого зверья, но не людей. А сейчас там были люди. Он решил было пробраться к кабине, предупредить лейтенанта, кто знает, может, дети добирают землянику, а, может, и не дети, но шофер сам что-то заметил, тормознул резко, всех бросило вперед. Нельзя, нельзя останавливаться!
— Чего это? — высунулся из будки Иван рязанский.
И, отвечая, сорочьим стрекотом отозвались автоматы.
Стынь комнаты разбудила меня, стынь и боль — я уснул в низком, продавленном креслице, и спина мстила за небрежение.
Ничего, возьму бюллетень, перцовый пластырь на спину, аспирин внутрь. Когда-нибудь в другой раз.
Я вышел во двор. Светло и радостно: снегом запушило и крыльцо, и дорожку, и все вокруг. Как в операционной до первого разреза.