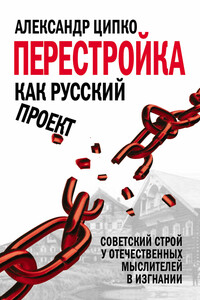Почему в России не ценят человеческую жизнь. О Боге, человеке и кошках | страница 52
И что я в этом штабе тогда узнал, и что важно сегодня знать всем тем, кто пытается судить о природе и истоках «Пражской весны»? На самом деле «Пражская весна» как радикализация оппозиционных настроений чешской интеллигенции ко всему советскому, ко всему, что связано с СССР, началась не как принято считать, с приходом к власти в ЧССР в январе 1968 года команды Дубчека, а в начале июня 1967 года, когда секретарь Союза писателей ЧССР, сын русского эмигранта Петр Махонин во время заседания IV съезда чехословацких писателей зачитал вслух письмо Александра Солженицына IV съезду писателей СССР, который проходил в мае этого же года в Москве. В этом письме к съезду писателей СССР, как известно, Александр Солженицын настаивал на отмене цензуры, на освобождении советского писателя, всей культуры от необходимости мыслить в рамках государственной идеологии, требовал доступа к произведениям русской эмиграции, русских писателей в изгнании.
И действительно, если вы сопоставите содержание текста письма Александра Исаевича к IV съезду писателей СССР с «Программой действий КПЧ», которую создали герои моего рассказа, Ота Шик и Радован Рихта, то вы увидите, что политическая часть последней уже просто повторяет требования Солженицына, и прежде всего его идею требования автономии культуры и науки от государственной идеологии.
И что получается? На самом деле, не Запад, не ЦРУ спровоцировали «Пражскую весну», как считают наши нынешние конспирологи, а наш родной Александр Исаевич Солженицын со своим письмом IV съезду писателей СССР. И самое интересное, о чем я уже сказал, идея оглашения письма Солженицына на IV съезде писателей ЧССР принадлежит сыну русского эмигранта Петру Махонину. Оказывается, что русские начали этот большевистский коммунистический эксперимент, и те же русские, в лице Александра Исаевича Солженицына, сделали все возможное и невозможное для разрушения его идеологических основ. По крайней мере очевидно, что письмо Александра Исаевича сыграло куда более важную роль в инициировании «Пражской весны», чем западные радиостанции.
И последнее, что касается экономической программы «Пражской весны». Тут, как меня наставлял Л. Копецкий, перед тем, как я шел в Институт экономики ЧАН брать интервью у Ота Шика, «…надо отличать убеждения чеха от всего, что связано с его поразительной природной осторожностью, нежеланием рисковать самым главным, рисковать жизнью. Что же касается Ота Шика, то он говорил мне, что как бывший рабочий, коммунист, подпольщик, просидевший 5 лет в немецком концлагере, является убежденным коммунистом и продолжает верить в коммунистические идеалы. Но многие другие реформаторы думают о том, как одновременно уйти от абсурдов советской экономики, но, с другой стороны, не переступить красную черту, не перепугать Москву, не допустить повторения Будапешта ноября 1956 года». И прекрасной иллюстрацией к этому, на мой взгляд, уже были идеи второго автора «Программы действий», который, в отличие от Ота Шика, писал ее политическую часть. Тут Радован Рихта уже просто предвосхитил программу польской «Солидарности» 1980 года, утверждая, что дело не в правоте Маркса, а просто в том, что придуманные им механизмы социализма уже несовместимы с требованиями научно-технической революции. Как он объяснял мне, подлинное научное планирование несовместимо с зависимостью науки от государственной идеологии, от правящей партии. Отсюда и его идея, которая вошла в «Программу действий», идея независимости науки от государственной идеологии. Радован Рихта, как мне казалось, в отличие от Ота Шиха, уже освободился от веры в истинность марксизма и искал вполне легальные способы уйти от его догматики, от его учения о нетоварной коммунистической экономике.