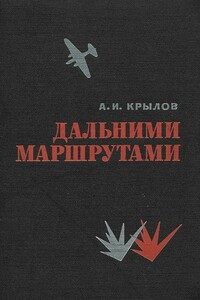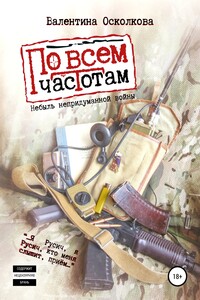Там, где ночуют звезды | страница 60
Перед ним лежала гимнастическая площадка, на ней возвышалась виселица. Воздух качался в петле, высунув посиневший язык. На фоне виселицы и снега, чёрного, словно между небом и землёй кто-то ощипал ворон, музыканты, босые, распиленные зубьями мороза, исполняли «Героическую симфонию» Бетховена. Дирижёр, маэстро из Венской филармонии, размахивал слишком длинными, широкими рукавами, пытаясь удержаться за палочку, будто утопающий за соломинку.
Оркестр — Гадасл была первой скрипкой — разрезал заиндевелые небеса. Пепельные лица публики выплывали, клубясь, из трубы крематория. Когда маэстро поклонился, раздались бурные аплодисменты. Видно, даже комендант был тронут. Он зачерпнул из корзинки пригоршню апельсиновой кожуры и швырнул музыкантам.
И не успели апельсиновые корки сверкнуть на снегу, как музыканты, словно орлы с перебитыми крыльями, бросились на подачку. Даже маэстро из Венской филармонии, не выпуская из окоченевших пальцев дирижёрской палочки, виртуозно подбирал такой деликатес.
А что же Гадасл? Она, единственная, осталась стоять посреди гимнастической площадки, прижимая к груди скрипку. Перед пепельными лицами, скрипкой и бетховенской «Героической симфонией» моей сестре было стыдно поклониться белому полушубку и апельсиновой кожуре.
Когда два года по христианскому календарю, старый и новый, расставались друг с другом, к нам в барак, переваливаясь, вошёл комендант и выкрикнул номер Гадасл. Я быстро спрыгнула с нар. Ведь мы, Гадасл и я, в лагере опять стали двойняшками. Я молилась, чтобы моя сестра с абсолютным слухом вдруг оглохла. Чтобы сон заткнул ей уши. Комендант уже вёл меня на гимнастическую площадку, где его тенью маячила виселица. Морозный воздух оттаивал под моим дыханием, и идти было легко.
Но моя молитва не была услышана. Сестра бросилась следом. Одна половинка нагнала другую, и Гадасл показала коменданту руку с выколотыми цифрами. Они сверкали, как звёзды.
Но звёзды сверкают и сейчас, а они, цифры, вместе с моей Гадасл угасли навеки.
Груня прикуривает одну папиросу от другой. Наверно, теперь с новой целью: соткать между нами занавеску из дыма.
Почему она не хочет, чтобы море сбросило темноту? Почему боится осколка солнца?
Хочу задать ей этот вопрос. И ещё множество вопросов, но слова погасли, как звёздные цифры на руке Гадасл. И к нёбу опять прилипают вкус и запах пасхального мёда:
— Я сказала, что из всех страданий мне осталось лишь одно: скитаться по свету и целовать облака её памяти, прислоняться к тем, кто любил мою сестру. По правде говоря, это моё второе желание и, наверно, последнее. После так называемого освобождения у меня не было иного желания, кроме как преследовать Зигфрида Гоха. Нет на земле уголка, где я не поставила бы на него ловушку.