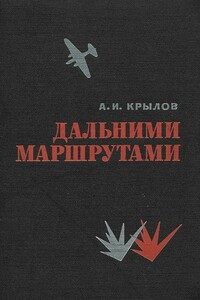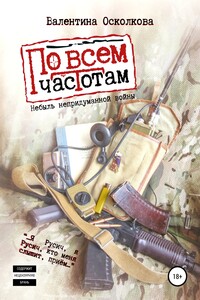Там, где ночуют звезды | страница 58
Когда у нас в городе гостил Хаим-Нахман Бялик, Мирон Маркузе послал ему эту брошюру и попросил об аудиенции. Поэт принял его в своём номере гостиницы «Палас», они проговорили несколько часов. Потом Мирон Маркузе рассказывал, что Бялик от его теории пришёл в восторг. Он будет распространять её в Палестине, когда вернётся домой. Будет везде выступать с речью, что все, и евреи, и арабы, должны вколоть антизавистин, и тогда между ними воцарится мир. Но сначала он вколет антизавистин себе, чтобы не завидовать молодым амбициозным поэтам.
В стеклянном ките бледнеют убегающие облака. Уже можно разглядеть муху — жужжащий метеор. Морское дно, как вывернутый наизнанку рукав, выворачивается обратно. Груня делает паузу, чтобы не мешать шуму дождя: пусть дождь выплачется, и ему станет легче. Она берёт папиросу, и молния подносит ей огня.
Матовые серные круги, словно обручальные кольца для мёртвых невест, плывут передо мной, повисают у меня на ресницах. К нёбу липнет запах и вкус мёда, который когда-то варили у нас дома к Пейсаху[20].
Чёрная вуаль исчезает. Вместо неё перед Груниным лицом ткётся вуаль из пьяного дыма. Она становится всё тоньше и тоньше, пока не превращается в сеть морщинок. Груня молчит. Но папироса осыпается, и женщина, насытившись пеплом, может продолжить рассказ:
— Антизавистин не успел исцелить человечество, но его — успел. Когда евреев кнутом загоняли в гетто, Мирон Маркузе вколол себе изрядную дозу своей чудесной сыворотки и навеки вылечился от зависти. А маме антизавистин был не нужен. Она и так никому не завидовала — никому, кроме мёртвых. И Господь сжалился над ней и впустил её в Своё царство.
Гадасл стала известной скрипачкой. Моя сестра играла на струнах, а я — на цепях. В лагере смерти струны тоже превратились в цепи. И там мы опять стали похожи, Гадасл на меня, а я на неё, как две слезы из одного глаза. И те немногие, кто в лагере узнал нас, кто помнил нас с наших детских или юных лет, вернули нам почётный титул двойняшек как знак, что мир — пока ещё тот же мир, и что всё осталось как было.
Хотя перед воротами крематория все стали близнецами, сотни, тысячи близнецов, и невозможно было отличить мужчину от женщины, ребёнка от старика, и на всех болтались одинаковые лагерные робы, и все были пострижены наголо, а черепа, как тебе известно, всегда улыбаются одинаково — всё-таки только нас с Гадасл называли близнецами, двойняшками.
Не только наши лица и тела, но и души стали в лагере похожи если не как две слезы, то как две искры из трубы крематория. Да, у каждой из нас были свои амбиции и свои девичьи тайны, любовные секреты, но мы делились ими друг с другом, как хлебными крошками и обглоданными костями. Наверно, подсознательно каждая из нас желала, чтобы другая сберегла её тайны. Тайны тоже хотят жить, хотят дожить до того момента, когда их раскроют. Если одна из нас спасётся, то спасёт и тайны своей сестры.