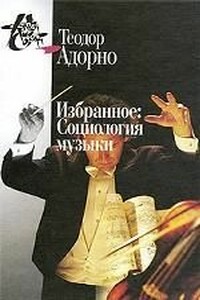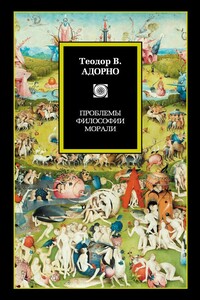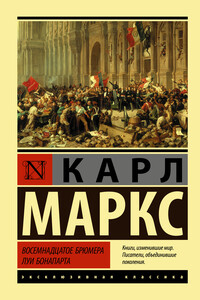Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 70
68. На тебя смотрят люди{178}. Негодование по поводу совершённых ужасных преступлений тем слабее, чем меньше их жертвы похожи на обычных читателей, чем темнее их волосы, чем они «грязнее» и дагообразнее{179}. Это говорит о самих ужасах не меньше, чем о тех, кто на них взирает. Возможно, социальный схематизм{180} восприятия у антисемитов устроен так, что они вообще не видят в евреях людей. Постоянно встречающееся высказывание, будто дикари, чернокожие, японцы – всё равно что животные (например, обезьяны), уже содержит в себе предпосылку к погрому. Возможен ли погром, решается в тот момент, когда смертельно раненое животное встречается взглядом с человеком. Упорство, с которым последний игнорирует этот взгляд – «Ведь это всего лишь животное!» – неизбежно повторяется и в злодеяниях против людей, при совершении которых преступнику приходится вновь и вновь уверять себя в том, что это «всего лишь животное», хотя еще в случае с животным он не был полностью в этом уверен. В репрессивном обществе само понятие человека является пародией на идею образа и подобия. Механизм патологической проекции устроен так, чтобы властители воспринимали в качестве людей лишь свое собственное отражение, вместо того чтобы отражать человеческое именно как многообразное. Убийство в этом случае есть попытка извращенным способом обратить безумие такого ложного восприятия в разумность с помощью еще большего безумия: того, в ком не видят человека и кто всё же – человек, превращают в вещь с тем, чтобы он уже не мог более никаким движением души воспрепятствовать маниакальному ви́дению.
69. Маленькие люди. Тому, кто отрицает наличие объективных исторических сил, легко использовать в качестве аргумента исход войны. Он мог бы сказать, что немцы должны были победить: в том, что это им не удалось, виновата-де глупость их вождей. В то же время решающие «глупости» Гитлера – его отказ в разгаре войны ввязываться еще и в войну с Англией, его нападение на Россию и Америку – имеют конкретный социальный смысл, который, следуя собственной диалектике, неизбежно разворачивался от одного разумного шага к другому, и так вплоть до катастрофы. И если бы даже это была глупость, исторически она была бы вполне понятна; глупость – это вообще не свойство, присущее человеку от природы, а нечто произведенное и усиленное обществом. Господствовавшая в Германии клика толкала страну к войне, поскольку была лишена значимой империалистической позиции. В лишенности этой, однако, заключалось одновременно и основание той провинциальности, неуклюжести и ослепления, которые сделали политику Гитлера и Риббентропа неконкурентоспособной, а их войну – азартной игрой. То, что они были столь же плохо информированы о балансе, который тори соблюдали между общими экономическими интересами и частным интересом Британии, а также о силе Красной Армии, сколь и их собственные народные массы за кордоном Третьего рейха, невозможно отделить от исторического предназначения национал-социализма и даже от его мощи. Шанс совершить безрассудство заключался единственно в том, что они были не слишком осведомлены – и это же одновременно послужило основанием их провала. Промышленная отсталость Германии ограничивала политиков, которые хотели ликвидировать отставание и были пригодны для этого именно как голодранцы, их непосредственным, узким опытом – опытом политического фасада. Перед собой они уже не видели ничего, кроме ликующей толпы да запуганного партнера по переговорам: это закрывало им вид на объективную мощь большого скопления капитала. В том, что Гитлер, палач либерального общества, всё же по состоянию своего сознания был слишком «либеральным», чтобы понять, что под оболочкой либерализма за пределами Германии складывалось неудержимое господство промышленного потенциала, и заключалась имманентная самому Гитлеру месть. Он, как никакой другой буржуа узревший неистинное в либерализме, не узрел полностью власть, стоящую за ним, – именно ту общественную тенденцию, при которой Гитлер в действительности был лишь барабанщиком. Его сознание вновь вернулось к той исходной точке слабого и близорукого конкурента, с которой он начинал в надежде ускоренным путем ее оздоровить. Час немцев не случайно пробил именно в момент торжества подобной глупости. Ибо лишь те, кто был подобен этим равно ограниченным и в понимании мировой экономики, и в знании мира людям, могли вовлечь их в войну и запрячь их твердолобое упорство в упряжку предприятия, не сдерживаемого никакой рефлексией. Глупость Гитлера была хитростью разума