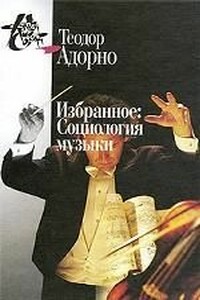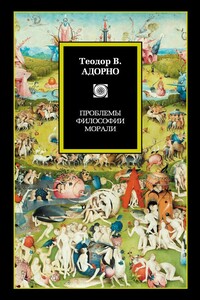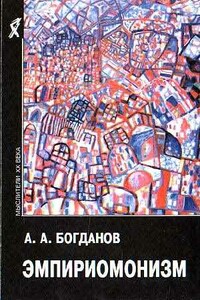Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 65
62. Более краткие размышления. Если перечитать одну из книг-наблюдений Анатоля Франса, например Jardin d’Épicure[38], то при всей благодарности писателю за готовность просветить читателя нельзя избавиться от чувства неловкости, не объяснимого полностью ни старомодностью, которую ренегатские французские иррационалисты особо акцентируют, ни личным тщеславием. Однако поскольку это тщеславие служит предлогом для зависти – ведь во всяком духе необходимым образом оказывается явлен момент тщеславия, как только он излагает себя, – постольку становится ясным и основание указанной неловкости. Неловкость ощутима в умозрительности, в неспешности, в морализаторстве, как бы оно ни преломлялось, в снисходительно воздетом указательном пальце. Критическое содержание мысли дискредитируется пафосом разглагольствования, свойственным прогосударственным профессорам, а ирония, с которой актерствующий Вольтер на титульных листах своих книг демонстрирует свою принадлежность к Académie Française, ударяет по самому шутнику. В манере его речи при всей подчеркнутой гуманности таится нечто насильственное: он может позволить себе так говорить, поскольку никто не решится прервать мастера. Некая доля узурпации, присущей любому поучению и даже любому чтению вслух, проникла в ясную структуру изложения, оставляющую столько свободного времени для бесед о самых неудобных вещах. Неопровержимым свидетельством латентного презрения к людям у этого последнего защитника человеческого достоинства выступает то бесстрашие, с которым он произносит банальности, словно не найдется никого, кто бы осмелился их заметить: «L’artiste doit aimer la vie et nous montrer qu’elle est belle. Sans lui, nous en douterions»[39]. Однако то, что проявляется в стилизованных под архаику медитациях Франса, втайне касается уже любого рассуждения, претендующего на право быть свободным от непосредственного целеполагания. Отрешенность как таковая оборачивается той же ложью, которой и так грешит суетливая непосредственность. В то время как мысль, в соответствии со своим содержанием, противится неостановимо нарастающему наплыву ужаса, нервы, сей орган осязания, присущий историческому сознанию, могут уловить в форме этой самой мысли, да даже в том, что она вообще позволяет себе быть мыслью, след согласия с этим миром, уступку которому отчасти делаешь уже в тот момент, когда отступаешь от мира настолько далеко, чтобы сделать его предметом философского осмысления. В суверенитете, без которого вообще невозможно мыслить, настойчиво утверждается привилегия, коей обладает тот, кому мыслить дозволено. Неприятие по отношению к этому обстоятельству и стало в конце концов самым большим препятствием для теории: если следовать этому неприятию, то нужно умолкнуть, а если не следовать, станешь плоским и пошлым, доверившись собственной культуре. Даже самое отвратительное деление речей на беседы профессиональные и беседы строго конвенциональные свидетельствует о смутном ощущении невозможности высказать помысленное без заносчивости, без кощунственного посягательства на время другого человека. Неотложнейшая задача способа изложения, хоть сколько-нибудь надежного, состоит в том, чтобы как раз не игнорировать подобный опыт, а при помощи темпа, сжатости, плотности и в то же время, опять-таки, необязательности выражать его.