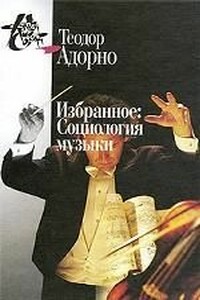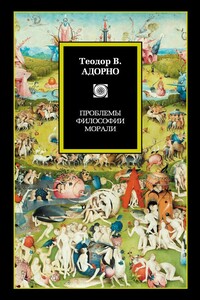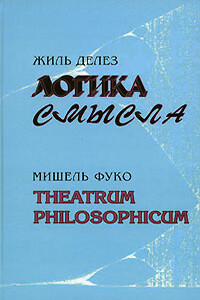Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 58
54. Разбойники. Кантианец Шиллер настолько же рациональнее, насколько и чувственнее, чем Гете, – и настолько же абстрактнее, насколько и полнее, пребывает во власти сексуальности. Сексуальность же как непосредственное вожделение превращает всё в объект действия и тем самым уравнивает. «Амалию за нашу шайку!»{143} – и потому душа Луизы подобна выдохшемуся лимонаду{144}. Женщин Казановы, которые не случайно имеют подчас вместо имени только одну букву, едва ли можно отличить друг от друга, как и женские фигурки, выстраивающие сложные пирамиды под звуки механического оргáна маркиза де Сада. Однако в великих спекулятивных системах идеализма, вопреки всем императивам, тоже живет толика подобной сексуальной грубости и неспособности различать – и сковывает одной цепью немецкий дух и немецкое варварство. Крестьянская похоть, лишь с трудом сдерживаемая поповскими устрашениями, отстаивает в метафизике в облике автономии свое право так же бесцеремонно низводить до сути своей всё, ей встречающееся, как ландскнехты низводят женщин в завоеванном городе. Чистое дело-действие{145} есть поругание, спроецированное на звездное небо над нами. А вот долгий, созерцательный взгляд, которому только и раскрываются люди и вещи, – это всегда такой взгляд, в котором безудержное стремление к объекту прерывается, осмысляется. Ненасильственное рассмотрение, порождающее всё счастье истины, сопряжено с тем, что созерцающий не вбирает в себя объект: это близость на расстоянии. Лишь потому, что Тассо{146}, которого психоаналитики охарактеризовали бы как деструктивную личность, робеет перед принцессой и падает цивилизованной жертвой невозможности непосредственного, – только поэтому Адельгейд, Клерхен и Гретхен{147} говорят созерцаемым, нестесненным языком, который делает их подобием праистории. Кажущаяся живость гётевских женщин оплачена отступлением, уклонением, и это больше, чем просто резиньяция перед торжеством порядка. Абсолютной противоположностью этому, символом единства чувственного и абстрактного выступает Дон Жуан. Когда Кьеркегор говорит, что в образе Дон Жуана заключена чувственность как принцип, он затрагивает саму тайну чувственности. Ее застывшему взгляду, пока в нем не пробудится самоосмысление, присуще как раз то анонимное и несчастливо-всеобщее, что роковым образом воспроизводится в его отрицании – во вступающем в силу суверенитете мысли.